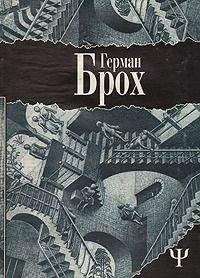Позже они не отказали себе в удовольствии проводить Бертранда домой, не желая открыто показывать, что Руцена намерена еще задержаться у Иоахима. Руцена расположилась между двумя мужчинами, так и шли они по безмолвным улицам, каждый сам по себе, ибо Иоахим не решался предложить Руцене руку. Когда за Бертрандом закрылась дверь дома, они посмотрели друг на друга, и Руцена очень серьезно, преданным тоном спросила: "Отвозить меня в казино?" Он ощутил, с какой серьезностью и как тяжело сорвалась эта фраза с ее губ, но сейчас он чувствовал лишь усталое безразличие, так что воспринял вопрос едва ли не с такой же серьезностью и был бы даже согласен проститься сейчас навсегда, и если бы вернулся Бертранд, чтобы увести с собой Руцену, Иоахим согласился бы и с этим. Но невыносимой была мысль о казино. И устыдясь, что ему потребовался такой импульс, он, все-таки счастливый, молча взял ее за руку. В эту ночь они любили друг друга больше, чем когда-либо раньше. Тем не менее и в этот раз Иоахим забыл отдать Руцене ее кружевные платочки.
Каждый день, когда маленькая почтовая карета, запряженная одной лошадью, возвращалась от утреннего поезда и подъезжала к зданию почты в деревне, у окошечка уже стоял, прислонившись, почтальон из имения, хотя и частный почтальон, но тем не менее составная часть почты, в определенной степени сам уже ставший ее служащим, который стоял, быть может, над обоими находящимися там служащими, и не из-за своих личных успехов, хотя он уже успел поседеть на этой службе, а скорее всего, потому, что был из имения и его должность была институтом, который существовал уже много десятилетий и, вне всякого сомнения, брал свое начало еще в те времена, когда и почты-то имперской не существовало, а достаточно редко через деревню проезжала почтовая карета и оставляла корреспонденцию в трактире. Большая черная почтовая сумка, след от ремней которой выделялся диагональной полосой на спине выгоревшего на солнце костюма, пережила нескольких почтальонов и наверняка происходила из тех давно ушедших и явно лучших времен, потому что в деревне не найти ни одного даже самого древнего старика, в самые молодые годы которого не висела бы эта сумка на своем крючке, а почтальон не стоял бы, прислонившись к почтовому окошечку, и каждый из стариков припоминал все это и мог пересчитать всех почтальонов имения, которые с диагональной полосой на куртке бодро ходили по своему маршруту, а теперь все вместе покоились там, на погосте. Так постепенно сумка стала старше и почетнее новой современной почты, которую соорудили после богатого бурными событиями 1848 года, старше даже, чем крючок, который в знак уважения к сумке или в определенной степени как последний знак внимания почтовых властей к владельцам имения был забит при строительстве здания почты, а может быть и как напоминание о том, что старые обычаи, невзирая на бурный прогресс, забывать не стоит. Ибо и в новом здании почты по-прежнему сохранялась старая привычка обрабатывать владельцев имения в первую очередь, которая, по всей вероятности, существует и по сей день: как только входит кучер с серо-коричневым почтовым мешком и бросает его на потертый стол тем пренебрежительным движением, которого в глазах кучера достоин почтовый мешок, почтмейстер, который лучше разбирается в чинах людских и служебных институтов, вскрывает с почти нескрываемой торжественностью печати и шнуры и рассортировывает сваленную в общую кучу корреспонденцию по ее размерам в маленькие пакеты, чтобы более удобно было ее просматривать и раскладывать, по завершении самым лучшим образом этой процедуры первое, что всегда происходит затем, так это то, что почтмейстер откладывает корреспонденцию для имения, достает из ящика стола ключ и направляется к висящей сумке, молча уставившейся на все это своей латунной защелкой; вставив ключ в середину защелки, почтмейстер открывает сумку, так что она распахивается и бесстыдно выставляет ему напоказ свои внутренности из парусины, и быстро, словно он не в силах долго созерцать распахнутую матерчатую пасть, опускает в нее письма, газеты, а также небольшие паке-It
ты, дает пасти небольшой толчок в нижнюю челюсть с тем, чтобы она захлопнулась, и закрывает латунные губы, спрятав после этого ключ в ящик стола. Почтальон же, остававшийся все это время в роли зрителя, хватает тяжелую почтовую сумку, цепляет ее на прочном потрескавшемся ремне через плечо, берет в руку более крупные пакеты и доставляет таким образом корреспонденцию в имение на час или два раньше, чем это удавалось бы официальному почтальону, который должен вначале обойти всю деревню; крайне ускоренная доставка демонстрирует, что существование в имении почтальона и его сумки -- это не только поддержание красивой старинной традиции, но и служение удовлетворению практических потребностей господ и служивых людей в имении.
Теперь Иоахим чаще, чем раньше, получал весточки из дома; в основном это были короткие сообщения, написанные отцом тем наклонным рукописным готическим шрифтом, который так сильно напоминал его походку, что без обиняков можно было говорить о треногости этого почерка. Иоахим узнавал о визитах, наносимых родителям, об охоте и о видах на осень, а также кое-что об урожае, сообщения на сельскохозяйственную тему завершались, как правило, следующим: "Было бы неплохо. если бы ты вскоре начал готовиться к переезду, ведь чем раньше ты начнешь входить в курс дела, тем лучше, ибо на все требуется время. Преданный тебе отец". Как всегда, Иоахим испытывал сильное отвращение к почерку и читал письма, может быть, с еще более злой невнимательностью, чем обычно, потому что любое упоминание об увольнении со службы и о переселении в имение было подобно втягиванию во что-то гражданское и шаткое, ему казалось, будто его хотят лишить защиты и вытолкнуть голым где-нибудь в районе Александерплац с тем, чтобы любой из этих чужих и деятельных господ сумел поддеть его. Можно ли назвать это инертностью чувств: нет, он не был труслив, он спокойно стал бы перед противником, держащим в руке пистолет, или ушел бы воевать с французами, которых считал своими кровными врагами, но опасности гражданской жизни были слишком чужими и непонятными, носили какой-то непостижимый характер. Все там было погружено в беспорядок, жизнь проходила без подчиненности, без дисциплины и наверняка без пунктуальности. Когда ему случалось по пути из квартиры в казарму проходить в начале и в конце смены мимо машиностроительного завода "Борсиг" и перед заводскими воротами, словно эдакий покрытый ржавчиной народец, стояли рабочие, которые, впрочем, мало отличались от тех же богемцев, то он ощущал на себе их зловещие взгляды, и когда тот или другой прикладывал в приветствии руку к кожаной фуражке, он не решался отвечать, поскольку избегал причислять умильно встречающих к тем, кто перешел на твою сторону, кто с тобой заодно. Ведь ненависть других он воспринимал как что-то оправданное, к тому же ему казалось, что Бертранда, невзирая на его гражданское платье, они ненавидят ничуть не меньше, чем его самого. Что-то, вне всякого сомнения, скрывалось за антипатией, которую испытывала к Бертранду Руцена. Bce это производило впечатление удручающего беспорядка. Йоахиму казалось, будто его корабль получил пробоину и его постоянно хотят подтолкнуть к тому, чтобы усугубить положение. Каким вздором казалось то, что отец требует, чтобы он из-за Элизабет оставил службу; если вообще и есть что-то такое, что могло бы сделать жениха достойным ее, так это то, чтобы он, по крайней мере, одеждой своей выделялся на фоне всей этой грязи и беспорядка; лишить его формы означает унизить Элизабет. Таким образом он всячески отодвигал на задний план мысль о гражданской жизни и о возвращении в отцовский дом, видя в ней назойливое и таящее опасность требование, но чтобы не оказываться в положении человека, который во всем не слушается отца, он, когда Элизабет или ее мать отправлялись на лето в Лестов, ездил с букетом цветов на вокзал.
Проводник у готового к отправке поезда, увидев Иоахима, вытянулся по стойке смирно, между обоими мужчинами возникло некое молчаливое понимание, понимание во взгляде бравого унтер-офицера, взявшего под защиту дам своего начальника.
И хотя это было немножечко неприличным оставлять баронессу одну в купе, где она уже расположилась вместе со служанкой и багажом, Иоахим воспринял как знак дружеского расположения предложение Элизабет прогуляться вдоль поезда, пока еще не подали сигнал к отправлению. Они прохаживались по плотно укатанной земле между путями туда и обратно, и когда, проходя мимо открытой двери купе, Иоахим отвешивал легкий поклон почтения, баронесса отвечала милой улыбкой. Элизабет же говорила о том, как она рада встрече с родным домом и что она очень надеется на частые встречи с Иоахимом в Лестове во время его отпуска, который он как всегда, а в этом печальном году -- тем более, проведет со своими родителями. На ней был облегающий английский костюм из легкого полотна серого цвета, и голубая дорожная вуаль, покрывавшая ее маленькую шляпку, очень хорошо гармонировала с цветом костюма. Это даже удивляло, что существо с таким серьезным выражением лица было способно проявить интерес и кокетливый вкус в выборе гардероба, особенно если предположить, что серое платье и голубая вуаль были специально подобраны к цвету ее глаз, серая строгость которых переливалась в безоблачную голубизну. Правда, оказалось сложным делом найти подходящие слова для выражения этих мыслей, поэтому Иоахим испытал чувство радости, когда прозвучал звонок и проводник попросил пассажиров занять свои места. Элизабет поднялась на нижнюю ступеньку вагона и, продолжая, полуобернувшись, разговор, смогла умело завуалировать неприглядное зрелище, которое производила дама, взбирающаяся, сгорбившись, в купе; ей чудом удалось пролезть в низковатую дверь. Теперь Иоахим стоял перед вагоном с высоко поднятой головой, и мысли об отце, с которым он, стоя на таком же месте перед дверью купе, не так уж давно разговаривал, столь странным образом перемешались с мыслями об облегающем жакете Элизабет и с планом женитьбы, который тогда таким отвратительным образом подкинул отец, что имя этой девушки с сероголубыми глазами и в сером облегающем жакете, хотя он и видел ее во плоти, стоящую там, наверху, в дверях купе, внезапно стало каким-то безразличным и расплывчатым, странно и неприятно исчезающим в вызывающем удивление возмущении тем, что существуют такие люди, как его отец, которые в своей развращенности имеют наглость отдать на бесконечно долгую жизнь девственнее существо какому-то там мужчине на унижение, так сказать, и осквернение. И в момент ее решительного подъема он так остро ощутил ее женщиной, с такой болью осознал, что ему надо ждать не сладостных ночей с Руценой, не ее исполненных томной тоски встреч и вечеров, а обрести серьезную, может быть, религиозную свободу действий, которую трудно себе представить, и не только потому, что воплощаться она должна была бы без дорожного костюма и формы, но ее трудно себе представить еще и потому, что именно сравнение с Руценой, которую он спас от мужских рук и осквернения, казалось богохульством. Наконец раздался третий звонок, и в тот момент, когда Иоахим, стоя на перроне, поднял в легком прощальном жесте руку, дамы замахали кружевными платочками, которые долго мелькали, пока в конце концов не превратились в два белых пятнышка, а из сердца Иоахима рискнула выйти приглушенная тоска и полетела вдогонку, зацепившись за белое пятнышко, она успела сделать это в последнее мгновение, прежде чем пятнышко растаяло вдали.