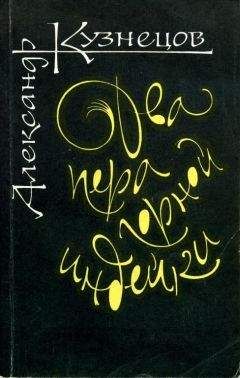Когда стемнело, вернулся Саша.
— Женька был? — спросил он с порога.
— Был...
— Всю водку выпил?
— Всю. И спасибо не сказал, — хмыкнул я.
— Больше я и брать не стал. Его не обманешь, — окал лесник, выкладывая из рюкзака всякую, как он называл еду, «выть». Сало, чай, конфеты, баночку с грибами, соленые огурцы... — Он враз унюхает. А так придет и уйдет.
— И очень хорошо. Мне она совсем не нужна.
— Мне тоже, но все-таки вы в гости приехали... Вроде как я...
— Чепуха!
Когда мы разлили по кружкам горячий чай, я спросил у Саши, почему это так: он и Женя из одной деревни, одного возраста, а такие разные люди.
— Работать не любит, избаловался, — отвечал лесник. — Ему только получать, отнять у кого, украсть. Как что, упыриться начинает. Боятся его. Мать померла, дом остался, вот он и приехал. Пропил дом, вонный амбар пропил. Зимой в котельной жил. Что ему? Тепло, и ладно. Алименты двоим платит. Скитался, тогда не могли найти, а здесь живет — вычитают с него. Тут тоже одна сумасшедшая баба есть, пришлая она, если не имеет мужика каждый день, так у нее припадок. Вот и бегает лесом в вагончик к Женьке. А в вагончике этом... Один рваный матрац на полу, больше ничего.
— Но вот он считает себя счастливым, говорит, свобода ему дороже всего.
— А... — махнул рукой Саша, — какое это счастье?!
— А в чем же счастье?
— Ну чего... — задумался лесник. — Чтоб семья хорошая, дети. Чтоб работа по душе. И чтоб совесть чистая была. Все. Больше ничего не надо.
Я стал примерять это на себя. Так все просто? Впрочем, в эти три слова — работа, семья, совесть — вмещается много. Очень много. Может быть, и все.
— А деньги?
— Деньги, конечно, — ответил он. — Только ведь за ними не угнаться. Сколько их ни будет, все равно мало. Вон Женька хорошо дом продал, а где они?
В магазине центральной усадьбы давно уже не продавали ни водки, ни вина. Совхозный старожил Афанасий Петрович, сухопарый, с морщинистым, помятым лицом и красными глазами старик, по привычке приходил сюда, подгадывая к открытию магазина после перерыва на обед. Вот и сейчас сидел он на ступеньках спиной к закрытой на большой висячий замок двери и говорил, говорил, вдохновляясь все прибывающей аудиторией. Пиджак на нем старый, заношенный, одна пуговица медная, со звездой, другая черная, а на месте третьей пучок черных ниток. Зато серая в пупырышках кепка на Афанасии была совсем новенькой, подложенной картонным обручем, отчего хранила форму многоугольника. Кепка эта означала праздничную одежду.
Обретя слушателей, Петрович чаще всего рассказывал о войне или о тюрьме. Сегодня же его занимали иные проблемы.
— Я пьяный, да?! А она терезовая? «Водка — яд! Водка — яд!» — передразнивал он противным голосом свою невидимую неприятельницу. — А где вы были, когда мы свои «наркомовские сто грамм» получали? Старшина наличный состав перед атаками числил, так что, считай, нам по двести перепадало. Тогда она не яд была? А теперь — «яд»! Без хлеба могли прожить, а без водки не могли. А мороз, а ранения, а контузии? Это тебе и грелка и наркоз. Ноги отрезали с ей в медсанбатах. А эта: «Водка — яд, водка — яд!»
— Сказал тоже... — вставила обширных размеров молодая женщина. — Война — другое дело.
— Почему другое дело? — встрепенулся Афанасий Петрович. — То же самое дело. Я, может, до фронта и не знал, что это за водка такая. А в сорок пятом только ею и радовался, победу да свободу праздновали. Терезовая какая нашлась! «Пьяный — не работник». А гроб кто Макарихе сколотил? Она, что ли?
Как умерла бабка Макариха, дали телеграмму внуку. Приедет ли, нет ли — хоронить надо. Обратились к директору совхоза, к Соловьеву. Тот говорит, она в совхозе не работала и не наше это дело. Даром что дочь ее работала! У него, у Соловьева, и леса нет на гроб, да и сделать его некому, был столяр Павшин, и того нынче нет, в больнице.
— Что ж в Кашире не заказали? — лениво проговорила толстуха, кинув в рот очередное семечко подсолнуха. Семечки она разгрызала без помощи рук, выплевывая одну шелуху. Не всякая птица способна так щелкать семечки.
— Почему в Кашире не заказали? А кто будет заказывать и на какие шиши? За смерть ей, как пенсионерке, полагается от собеса десять рублей. Так за этой десяткой в район надо ехать. А чтоб ее отдали, справка нужна, что, мол, померла и от чего. Медицинская справка с печатью. Когда эту справку выправишь... Да за десятку нынче гроба и не купишь.
Мне Тимофей говорит: «У тебя, Петрович, гроб стоит. Ты хвалился, что дубовый себе сделал. Отдай ей. Божье дело. А себе еще постругаешь». У меня точно стоит заготовка, только сколотить. Не спеша сделано, гладко, и главное — дуб. Но по моему размеру. Она маленькая, я большой. Она толстая, а я себе сделал так, чтобы не болтаться.
Тут внук приехал, — продолжал Афанасий Петрович, и его больше никто не перебивал, — Василий. Думал, она уже в гробу, а Макариха третий день на кровати лежит. Дух уже пошел. Туда-сюда, в Каширу ехать поздно. Да и не на чем. Еще день пройдет, а то и два. Васька говорит: «Я сам сколочу». И опять к директору. Тот ему поворот: « Не могу доверить циркулярку, она в неисправности. Отлетит пила — башку отшибет. Кто отвечать будет?»
Покричали они, покричали, а Васька ему: «Ах, так? В райком поеду. Где это видано, чтобы человек непохороненный в своем доме оставался?» Сел в автобус и — в Ясногорск. Из райкома приказ директору: сделать гроб и похоронить. Ему бы, Соловьеву, не упираться а сразу ко мне обратиться. Так, мол, и так, Афанасий Петрович, сделай, пожалуйста, больше некому. Я в совхозе еще до него столярничал. Позвал бы да доверил ключ от столярки, вот и все дела. Я же денег не возьму А теперь вот наспех.
Открыли мы столярку — нет материалу. Или доски сорок — пятьдесят, или горбыль. Распустить сороковку, конечно, можно, но опять время. И я говорю Ваське: «Вот что, парень, полезай на чердак и посмотри в дальнем правом углу. Я когда-то хорошую ель там положил. Может, цел этот тес». Полез и кричит: «Есть, дядя Афанасий! Сухие, ровные!» Откуда же им плохим быть, если я их себе на гроб и припрятал. Это уж я потом дуб достал. Сложил я их хорошо, не повело.
Тут к магазину подошел Коля Матекин, тракторист лет пятидесяти. Рука у него в гипсе, подвязана, в платок уложена.
— Здорово, Колюня! — еще больше оживился Афанасий Петрович при виде единственного среди собравшихся мужчины. — А я рассказываю, как гроб Макарихе делал. Вот послушай. Времени часа четыре уже, а назавтра утром хоронить. Дело непростое: тут размер, форма, понимаешь, и, главное, подгонка. Надо, чтоб плотно подходило, щелей никак нельзя. Начал я, а Васька, внук ее, несет мне бутылку и бротерброды. «Нет, Васек, — говорю, — так дело не пойдет. Сейчас нельзя». Мне надо так сделать, чтоб людям понравилось, чтоб чисто было, гладко, без сучков и впритирку. Бротерброды я съел, а бутылку под верстак у стены поставили. Пока не кончу, не притронусь.
К ночи — к полночи поставил я гроб на ножки. На токарном станке ножки выточил. Последний раз шкуркой прошелся, уголки закруглил. Любо-дорого!
— Не гроб, а конфетка, — мрачно пошутил Николай.
— А что ты думаешь? Так и есть, — согласился Петрович. И продолжал: — Полюбовался я и так есть захотел, что отхлебнул лишь малость из бутылки и домой пошел.
Утром приходим с Васькой в столярку, а гроб до дома везти не на чем. До нас ведь километра три. Взяли на плечи и пошли. Хорошо, строители подвернулись, машина с турбазы шла, подвезли. Хоронить все собрались. Да что и осталось у нас... Все одной ногой в могиле. Свалили мой гроб. Народ хорошо отзывался. И полегчало У меня на душе. Пока эта... дачница не встряла. «Водка — яд! Пьяный человек — не работник!» От таких, как она, и пошла наша погибель. Она, что ли, работник? Они, что ли, трудились? Их тут с самой войны не видать Все поразбежались.
Пришла продавец, открыла замок и отвела в сторону перекрывающую дверь стальную полосу. Женщины заспешили к прилавку, разобрались, кто за кем, встали в небольшую очередь. Тракторист на правах мужчины первым взял сигареты и ушел, не стал слушать Петровича, Тогда поднялся со ступенек и он. Но в магазин не зашел поплелся в свою деревню. Афанасий Петрович еще вчера купил хлеба, рожков и сахара. А больше там и брать нечего.
Уже в темноте, под проливным дождем, машина альпинистской экспедиции пришла в кишлак Лянглиф, последний населенный пункт в верховье Зеравшана, куда доходила головокружительная автодорога. Наш переводчик Слава Паньков, белобрысый сталинабадский студент-естественник, свободно объяснявшийся на таджикском и киргизском языках, повел меня куда-то во мрак искать начальство. Мы долго плутали в лабиринте узких проулочков, где трудно было разойтись двум людям. По их каменному дну бежали потоки воды. Кое-где эти коридоры слабо освещались огнем очагов, мерцавших в проемах открытых дверей. Наконец мы пришли к большому дому председателя сельсовета. Из его окон в непроглядную тьму лился свет керосиновых ламп. Здесь шел той[3] в честь приезда раиса[4]. Как мы потом узнали, его колхоза еще не существовало. Все население кишлаков, лежащих выше Матчи, переселялось в долину. Там из жителей всего ущелья и создавался большой хлопководческий колхоз. Это были пятидесятые годы.