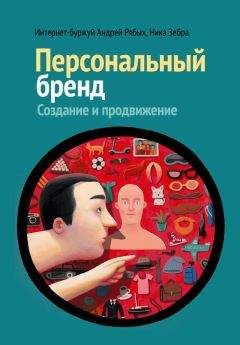– сувенир, сработанный Стрижом в тюрьме, выбрасывает его в черный вихрящийся воздух, уже по-осеннему холодный, вытирает ладонь о штаны, словно мальчишка, раздавивший гусеницу.
В поезд врывается холод, перед лицом грохочет мост, дышит ржавым железом. Мелькает изгиб реки с косматыми лозинами, щекочет ноздри запах осоки…
Тень мелькнула среди кустов, ни один сучок не хрустнул, Гладкий возник передо мной, как чертик из табакерки, прислонил велосипед к стволу яблони, щелкнули чешуйки коры. Появление милиционера, пусть даже и бывшего, не сулит ничего хорошего.
– Что вы, Григорий Абакумыч?.. – Я испуганно привстал со скамейки.
Гладкий навсегда утратил способность к нормальному человеческому общению, в поселке его никто и за человека не считал, но все по-прежнему его боялись. Даже в темноте заметна механическая служебная улыбка. Я ждал, когда он заговорит на своем протокольном языке. Сел Гладкий на табурет, положил на стол короткопалые ладони.
Каждый толстый палец казался отдельным живым существом. Бывший участковый достал из кармана кителя замызганный блокнот, чернильную авторучку, отвинтил колпачок, сделал несколько пробных росчерков. На желтой бумаге остались влажные фиолетовые закорючки.
– Не следовало бы тебе писать обо всех наших событиях по поводу осуждения человечества вообще…
– Не понимаю, Григорий Абакумыч, о чем ведете речь – я работаю в местной газете, пишу о надоях, привесах и прочих сельхоздостижениях.
– Моменты прожитые исправлению не поддаются – как ввиду решенной судьбы, так и в соответствии с веком, они остаются всего лишь неподтвержденными бессмысленными фактами. Знай, сынок: дела прошедшие состоят из миллионов незаполненных протоколов… Всю свою жизнь, если ее рассматривать документально, я, делая службу, пробирался через частокол преступлений… – Он задумался, перестал рисовать затейливую вязь строчек. – Я помню каждый злобный насмешливый взгляд, направленный в мою сторону, каждую ничтожную угрозу над смыслом расследования…
– Зачем вы мне все это рассказываете? – Я с изумлением смотрел на нелепого старика в мятой форменной фуражке без кокарды, сжавшего в толстых пальцах еще более толстую авторучку. – Мне ничье прошлое, а тем более ваше, совсем неинтересно.
– Предлагаю взять! – Он протянул мне свою авторучку.
– Зачем она мне? – Я чуть не упал со скамьи.
– Положительным образом её тебе дарю!.. – Он поманил меня к себе, медленно сгибая и разгибая короткий указательный палец – знаменитый в прежние времена милицейский жест, который завораживал и делал бессильным любого человека.
Пришлось взять неуклюжую авторучку, еще теплую от его прикосновения.
Казалось, внутри нее были не чернила, а непонятная, все еще горячая кровь прошлого века.
Гладкий встал с табурета, взял свой дребезжащий велосипед, повел его в руках из сада, стараясь не наступать на яблоки, насыпавшиеся так густо, что местами тропинку совсем не было видно. Он все-таки был уже совсем старым человеком, его покачивало.
Я смотрел на его спину, на выгоревший до желтизны китель и гадал: обернется или нет? И он действительно обернулся, прокашлялся в кулак:
– Ты обязательно напиши следующее: меня всенародно не понимают и обижают откровенно вредными взглядами со стороны. Я не хочу, чтобы память обо мне утонула в пустых насмешках…
– Чего же вы хотите, Григорий Абакумыч? – Я видел темное в сгущающихся сумерках лицо с блестящими глазами.
Старик исподлобья смотрел на меня как на подозреваемого, с которым он может сделать всё что угодно:
– Рекомендую отобразить мою судьбу самым положительным примером.
Народ меня не любит, потому что не понимает, что ему без меня нельзя. Я – Гладкий!.. – последнюю фразу он произнес громко и настойчиво. – Я – машина народной судьбы!
Затем Григорий Абакумыч почти мгновенно исчез из сада, будто испарился.
Вернувшись в дом, я лег в постель и заснул под монотонное журчание приемника.
Мне снилась помещица Блоха в расписном народном сарафане и вышитом платке – розовощекая девка, совсем не больная, с веснушками на полной груди. Она прислала мне письмо по электронной почте, но файл никак не хотел открываться – вместо букв выскакивали непонятные знаки, запечатлевшие каким-то образом прошлое нашего края.
Утром меня растолкала мать:
– Стриж под поезд бросился!
– Как бросился?
– Так…
Гладкий явился на место происшествия по собственной инициативе, зафиксировал в неофициальном протоколе факт о наручных часах: Стриж зачем-то и положил на траву среди засохших ягод “Победу” с выцветшим циферблатом, затем бросил на траву белую рубашку – символ юности 60-х.
С высоты железнодорожной насыпи он мог видеть в окне своего дома лампочку, которую оставил включенной. Так во все времена смотрели во тьму беглые рабы, знавшие, что от погони им не уйти и пустыню, расстилающуюся перед ними, не преодолеть. Над заревом поселка возникал в темноте сладострастный яд власти, ее неискоренимое высокомерие. А теперь он, Стриж, остановившийся возле холодных, тускло сверкающих рельсов, сам над собою власть.
“Отец! – мог воскликнуть он напоследок, и, наверное, сам удивился ничтожности своего голоса. Темнота молчала, стрекотали кузнечики. -
Спаси меня, отец!”
Нет ответа. Вспыхнул прожектор тепловоза – он был еще далеко, и в то же время стремительно приближался. Возникла сначала точка, затем громыхающая фигура состава. Стриж лег в траву, чтобы машинист его не заметил, кожу холодила роса. Блестело стеклышко часов, лежащих рядом с рубашкой.
Медленно ползли в гору вагоны. Стриж нырнул всем телом под колеса, как в воду, его всосал ветер движения состава. Будто не он сам бросился, а все получилось само собой. В следующий миг он ощутил, как силен поезд, на котором собирался ехать в недосягаемый
Ленинград. Что-то лязгнуло в последний звон ночи, тяжесть накатившего колеса оказалось мгновенной, разбросались на винтики горячие механизмы века, звезды легли на шпалы, пахнущие полынью и мазутом.
На следующий день хоронили Стрижа, как и его мать, – за счет сельсовета.
Прохор Самсонович неожиданно явился на похороны, надев по такому случаю темный, в полоску костюм – тот самый, про который старушки говорили, что он уже старый, на голове помятая шляпа, зато начистил до блеска ботинки.
– Признал Первый сына-то, хоть мертвого, но признал!.. – перешептывались меж собой старушки.
Старик шел вслед за процессией, а когда наступил момент прощания, скромно отошел в тень черемухи.
Марфа тут же начала к нему придираться:
– Сказал бы хоть словечко, папаша! Привык доклады читать по бумажке, а как сын помер, так он молчит, гада советская!..
Прохор Самсонович машинально вышел вперед, встал в позу произношения речи.
– Да, я сегодня хороню его. Поверьте, люди, я не знал прежде, что он мой родной сын…
Все слушали его, с покорным напряжением вытянув шеи, уверенные в том, что бывший Первый всегда говорит особенные слова.
– Прощай, сын, и вы, люди, меня простите!..
Он с трудом наклонился над гробом, поцеловал покойника в синее обезображенное лицо, прикрытое марлей. Несколько старушек вразнобой всхлипнули. Они с одобрением смотрели на Прохора Самсоновича. Пусть он ни разу не перекрестился, зато плачет по-настоящему.
Мужики заколотили крышку, опустили гроб в могилу. Все начали бросать туда горстями глину. Старик тоже шагнул к яме, крошки из-под его штиблет с шорохом посыпались вниз. Он вдруг заскользил, мы с Левой успели схватить его под руки.
На поминки Прохор Самсонович не пошел, хотя старушки настойчиво и наперебой его приглашали, он для них по-прежнему оставался самым главным на свете начальником. Прямо с кладбища старик, покачиваясь, словно пьяный, побрел домой.
Аксинья, распоряжавшаяся похоронами, зазвала меня и Леву помянуть
“раба божьего Василия” в теперь уже ничейный низкий домик, построенный, наверное, еще до революции, вросший нижними венцами в землю.
За столом, уставленным скромной закуской и выпивкой, приобретенной соседями вскладчину, возникло тихое оживление. Старушки вспоминали, какой Вася был добрый, как он любил свою мать. Нам с Левой подливали магазинной водочки, накладывали в тарелки блины, теплые котлеты. И сами не забывали пропустить очередную стопку.
Мне странно было смотреть на старух, я думал, что скоро Майя сделается одной из них. Память в неуместный момент дотошно воспроизводила уголки Майиного тела, рыжие волоски в ложбинке белого живота.
Поминальной выпивки нам с Левой оказалось мало, и по пути в редакцию купили бутылку водки: поминать так поминать! Редактора Бадикова в редакции не было, его опять вызвали на какое-то совещание.
– Я в своих романах создал новый российский эпос, идеологически оправданный… – объяснял Лева. Его постепенно развозило. – Эта вещь по своему духовному воздействию будет похожа на компьютерную программу, ее можно будет продать потребителям, клянусь надоями и привесами!.. А все эти Стрижи, Вадимы, бывшие Первые – они слишком приземлены, нет в них романтического духа. Они испортили остаток прошлого века, и нечего о них художественно помнить.