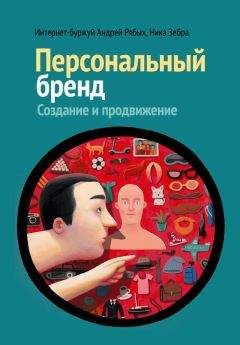– Я в своих романах создал новый российский эпос, идеологически оправданный… – объяснял Лева. Его постепенно развозило. – Эта вещь по своему духовному воздействию будет похожа на компьютерную программу, ее можно будет продать потребителям, клянусь надоями и привесами!.. А все эти Стрижи, Вадимы, бывшие Первые – они слишком приземлены, нет в них романтического духа. Они испортили остаток прошлого века, и нечего о них художественно помнить.
– В чем же заключается твоя “национальная” идея”? – спросил я.
– Не иронизируй. Под знаменем “национальной идеи” мои романы обязательно пробьются в печать. Я пока еще не знаю, что она конкретно собой представляет, эта идея, но я заранее расставлю смысловые вехи, по которым она должна идти вперед: гуманизм, демократия плюс…
– Социализм, прорвавшийся “из-под глыб”! – в шутку добавил я.
– Опять ты со своим неуместным юмором? – Мой коллега сердито взглянул на меня.
– Надеюсь, Вадим опубликует твои вещи, он интересуется всякими там
“духовными прорывами” и “национальными проектами”, они ему нужны для оправдания собственной деятельности. – Я старался обнадежить Леву, чтобы он перестал плакать.
– Почему же тогда Прохор Самсонович не верит, что нынешние богачи будут жертвовать деньги на непонятную идею? – Лева шмыгнул покрасневшим от волнения носом, внимательно взглянул на меня.
– Потому что он прожил жизнь и знает людей, в частности своего сына.
– Вадим предлагает признать советское прошлое! – Лева по-пьяному надул губы. – Но разве можно его оправдать, это прошлое?
– Признать тот факт, что оно существовало, придется… – Я люблю иногда подразнить людей, которые, по словам апостола, “надмеваются тленным своим умом”. – Никто не сможет опровергнуть тот факт, что оно, советское прошлое, было на самом деле.
– Не согласен! – вскричал он. – Все мое детдомовское нутро против этого категорически протестует. Здесь более уместны слова Шекспира:
“Погублен век, будь проклят он!”
– Но это не значит, что мы должны отшвырнуть неудавшийся век, как тряпку. Мы с тобой жили в том веке пусть маленькими, но личностями.
– Да, “человек”, “личность” – понятия именно и только советские.
Стриж был на суде личностью, он смог взять на себя чужое преступление.
– Но почему же он не смог жить дальше? – спросил я, наливая по второй, чтобы сбить азарт спора.
– Ох уж эти милые, добрые, несчастные советские негодяи!.. – пьяно пролепетал Лева. – Стриж узнал, что он брат Вадима во время совместного купания в пруду. Известие потрясло его, хотя он и не подал виду. Еще до суда родственное чувство подсказало ему, что он выручает не какого-то стилягу, но родного брата.
– Так давай же выпьем за это таинственное чувство родства! – предложил я.
Послышалось царапанье в дверь кабинета, невнятное бормотанье.
Лева, покачиваясь, поднялся со стула, взялся за дверную ручку, заранее уверенный, что это опять пришли к нему с какой-нибудь жалобой.
Он неловко открыл дверь, вошла, также покачиваясь, Марьяна
Прокопьевна. Платье ней коричневое, засаленное, с рисунком пузатых довоенных самолетиков. Из-под небрежно повязанного платка торчат седые космы. Голос бывшей советской барыни – скрипучий, жалобный, и в то же время гневный, с визгливыми оттенками. Повернулась ко мне:
– Иди к нему – помирая! – Так и впилась в меня поблекшими глазами.
– Кто? – Я машинально от нее попятился.
Марьяна Прокопьевна вновь перекрестилась на тусклое редакционное окно:
– Тюкнула она яво.
– Кто “она”?
– Известно хто – кондрашечькя! – произнесла с вызовом, почти злорадно и, как мне показалось, хихикнула, ее фиолетовые зрачки искрились на фоне блекло-голубых радужек. – Сначала рука перестала владать, таперича нога заколянела…
– Может, “скорую” вызвать? – рука моя потянулась к обшарпанному, заклеенному скотчем телефону.
Отрицательный жест дрожащей руки:
– Ничего ему не надыть. Тебя прося придтить, чевой-то хоча сказать…
– Что он мне еще может сказать? – с невольным раздражением вырвалось у меня.
Лева с иронией усмехнулся: будешь знать, с кем водить дружбу!
– Игоряшка тоже умер!. – Старуха наклоняется ко мне со странной улыбкой. Теперь наши лица на расстоянии сантиметров, мы горячо обдаем друг друга перегаром. Марьяна Прокопьевна опять, наверное, пила спирт, настоянный на вонючих “целебных” корешках.
– Как умер? -Визит полусумасшедшей старухи меня почти совсем отрезвил.
– Из поезда выкинулси, разбилси, под мостом нашли… Вадим на винтолети туды прилятел, а Игорек ляжить, весь разбитай, почитай без лица… Вадимчик так по телефону мне кричал об этом случаи, убивалси, что у ине сердца сжалося и до сей поры не отпускаить. Я ему в телефон ответила:
“Вадя, несчастный ты мой сыночик! Сколькя раз я табе говорила: живи по-християнски, молися не раз у год, а кажный день!.. Таперича и отец наш, Прохор, ляжить, помирая…” Вот что я ему сказала, и слышу, как он в ответ в трубке еще дюжее кричить – он безумнай, совсем безумнай!..
“Ляжить”, “безумнай”… – мне почему-то хотелось ее передразнить. Я, ища хоть какой-то поддержки, взглянул на Леву. На красном лице его проступили белые пятна – признак гнева.
– Да убирайтесь вы оба отсюда! – Он, спотыкаясь, подошел к форточке, распахнул ее ударом кулака, звякнули вылетевшие стекла, с улицы пахло засыхающей листвой. Глаза у Левы были дикие, борода встопорщилась.
Марьяна Прокопьевна, опираясь костлявыми кулаками о край стола, бормотала:
– Он тебя зовёть! – Старуха опять взблеснула на меня глубокими сияющими глазами, а в следующий миг словно бы перестала узнавать.
Развернувшись на месте, ни на кого не глядя, засеменила к двери, опираясь о стену.
Я хотел взять ее под сухой локоть, чтобы свести по ступенькам с террасы, она резко вырвалась:
– Уйди, я сама! – Багровость щек контрастировала с сединой, клочьями валившейся из-под развязавшегося платка. Одна щека у нее дергалась, казалось, старуха подмигивает.
Заметив, что я остановился и слушаю, она, как мне показалась, ободряюще улыбнулась, взмахнула ладонью – иди с богом!..
“НА ПРОЩАНЬЕ ДАЙ МНЕ РУКУ!”
Я быстро шел по знакомой тропинке. Ночью моросил дождик, в воздухе почти не пахнет гарью. Вот и белесая выщербленная стена.
По затоптанным грядкам ходили Марфины куры, клевали помидоры, подвязанные к палочкам. Сломаны нижние ветки на яблонях, исчез из палисадника шланг для полива – вновь подвергается разграблению бывшая барская усадьба!
Медная дверная ручка, оставшаяся со времен Блохи, стерта до белизны.
Скоро и ее оторвут бродяги, сдадут скупщикам цветного металла.
Темные сени с вечным запахом кислятины, комнаты с низкими потолками, считавшиеся когда-то просторными и светлыми, гостиная с пыльной бронзовой люстрой.
Бывший Первый, накрытый пледом, лежит на обшарпанном кожаном диване, зашитом в нескольких местах дратвой, взгляд направлен в потолок.
Розовые еще недавно щеки окрасились в болезненную синеву, круглый русский нос заострился, стал тонким, будто просвечивающимся.
Увидев меня, Прохор Самсонович шевельнул ладонью, указывая на табурет. От слабости голос его почти пропал:
– За что же внука на алтарь я положил?.. Плачьте, люди! Плачь, райцентр! Плачь, Марьяна, несчастная моя жена! Плачь и ты, корреспондент…
Глаза мои и без того были мутны от слез.
– Ему бы жить да жить! – бормочут все еще властные губы, превратившиеся в две темные полоски. – Я думал, что у Игоря жизнь сложится по-другому! Стриж умер: в мире стало чисто, хорошо, а
Игорек решил от нас почему-то уйти, дураки-охранники не уследили…
Зачем он, понимаешь, так сделал?
Бывший Первый взглянул на меня строго и пристально, словно вел заседание бюро, а я должен был перед ним отчитываться. Но мне нечего было ему ответить. Я захватил с собой свежий номер газеты с его краеведческой статьей, но почему-то не решился отдать ее, положил на стол.
Правая сторона лица старика не шевелилась, как бы омертвела, однако речь его была вразумительная, с четкими ораторскими паузами.
Прохор Самсонович с трудом привстал на диване:
– Я прожил тяжелый страшный век. Народ поймет, кто кем был и кто есть кто!
Мы обнялись. Я чувствовал сквозь материю пижамы кости его рук и плеч, а ведь еще вчера это был богатырского сложения человек.
– Я хочу, чтобы люди плакали обо мне, когда меня понесут в гробу, – тихо произнес он. – Как думаешь, заплачут?
Я торопливо кивнул.
Старик удовлетворенно вздохнул, под кожей лица его появились черные шевелящиеся пятна. Слезинка скатилась на подбородок и тоже стала черной.
– Дай напоследок попить! – попросил он.
Я подошел к столу, налил из толстостенного райкомовского графина полстакана воды, сделавшейся от долгого стояния похожей на масло.