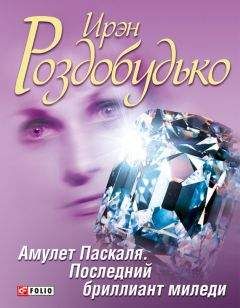– Эй, ты где? – коснулся моей руки Иван-Джон. Под столом его нога и бедро были тесно прижаты к моим именно этим частям тела. Было заметно, что он уже хотел слинять отсюда. Я очнулась.
– …Хозяин может не замечать тебя довольно долго… – продолжал Никола (я, наверное, что-то пропустила из его предыдущей реплики), – пять, десять, даже двадцать лет… Но всегда следует знать, а лучше – быть уверенным, – что он обязательно хоть раз бросит взгляд в ту сторону, где горит твоя «лампочка», и остановит на ней свой взволнованный взгляд. И ты почувствуешь облегчение. И дальше все в твоей жизни наладится…
– Вы, оказывается, поэт и мистификатор, – улыбнулась Галина. Она просто горела желанием взять его под свое крыло.
– Нет. Я занимаюсь физикой эфира. – Он не обращал на ее заигрывание никакого внимания. – Это потаенная наука. Она не имеет никакого отношения к официальной. Поэтому и говорю, что тружусь на будущее…
– И вас больше ничего-ничего не интересует? – продолжала доставать его наша хищница. – Например, любовь…
– М-м-м… У меня была одна любовная история. Но она не совсем обычная, – пробормотал Никола.
– Ну, если уж этот вечер – ваш, то поведайте нам обо всем! – заметил Иван-Джон.
– С детства я любил кормить голубей, – начал Никола. – Я кормил тысячи этих птиц! Это продолжалось годами. Представьте себе: кто может запомнить всех голубей, которые теснятся у ног! Но была одна голубка – белая со светло-серыми пятнышками на крыльях. Она очень выделялась среди остальных. Я мог узнать ее где бы она ни была, и она находила меня – где бы ни был я. Повсюду. Стоило лишь вспомнить о ней, как она прилетала. Я… Я полюбил эту птицу так, как мужчина любит женщину…
Галина тихо хмыкнула в кулачок. Рассказчик смутился и замолчал. Все с укором взглянули на нее. После долгой паузы, во время которой мы с интересом смотрели на Николу, он смилостивился и продолжал с вызовом:
– Да! Я любил ее! Я не виноват, что родился человеком. А она – осталась в птичьих перьях. Когда она болела – прилетала к моему окну. Я лечил ее. Когда мне было плохо – я всегда видел ее на своем подоконнике. Эта голубка была отрадой моей жизни. Однажды, когда я лежал в темноте и, как всегда, решал какой-то научный вопрос, она впорхнула в комнату и села на мой стол. Я понял, что она хочет сказать мне нечто очень важное, встал, подошел к ней. Она смотрела на меня своими черными глазами-бусинками. И я понял, что она скоро умрет. Птицы живут меньше людей…
Когда я это осознал и сформулировал словами в своем мозгу – из глаз моей голубки вырвался мощный луч яркого света. Это был реальный, сильный, ослепительный луч, который был гораздо мощнее света лампочки в моей лаборатории. Когда эта голубка умерла, я потерял силы. Поэтому я здесь…
Мне показалось странным, что этот вечер начался с птички и заканчивается подобной историей. И я снова подумала, что мир устроен, как матрешка. Интересно, что по этому поводу думает Иван-Джон? Я посмотрела на него. В его глазах отражалось пламя маленькой свечи, горевшей на столе. Оно было ярким и словно плыло в синем-синем море этих глаз.
3Интересно, больно ли змее выползать из собственной кожи? Когда-то этот процесс показывали в одной научной телепрограмме. Но тогда я только с интересом наблюдала, как медленно шелушится змеиная кожа, как она тускнеет, сморщивается, а потом из нее, как из грязной тряпочки, выползает яркая желто-зеленая змейка и ныряет в такую же зеленую веселую живую траву.
Теперь я подумала: больно ли это?
Больно ли вышелушиваться из узкого тоннеля?
Из узкого тоннеля, который сжимает тебя со всех сторон.
Сжимает и пытается удержать в себе.
Удержать в себе, не дать продохнуть.
И ты сопротивляешься, прорываешься самостоятельно.
Ведь никто не поможет, не вытряхнет тебя из кожи, как из мешка.
Разве что будут вот такие наблюдатели – по ту сторону экрана…
А в то же время ты думаешь о том, что прежде это была ТВОЯ кожа.
И ты жила в ней – такая веселая и живая.
И тебе совсем не было страшно и тесно в ней.
– Больно ли змее менять кожу? – спросила я Ивана-Джона, когда мы шли по лесной тропинке к тем снегам на вершине горы, куда я боялась забраться сама.
– Думаю, что да… – ответил он. – Что-то менять вообще больно. Представь, как она ползет еще незащищенным брюшком по камням. А потом чешуя становится плотнее. И все налаживается.
Да, я об этом не подумала: как она ползет потом. Пожалуй, это тоже больно. Какое-то время…
Тяжелый, как ртуть, лес был засыпан сухой хвоей, из-под которой выглядывали упругие влажные шляпки грибов. Они были как леденцы…
Их хотелось лизнуть.
– Почему я никогда не помню, как мы с тобой занимаемся любовью? – спросила я.
– В самом деле? – удивился он. – Тебе плохо со мной?
– Нет. Наоборот. Так хорошо, что я – летаю. Но потом. После… Это так странно, как…
Я не знала с чем это можно сравнить…
Было такое впечатление, что мы занимаемся любовью все время, даже тогда, когда вот так идем по лесу и разговариваем…
– Чтобы понять мир, достаточно одного Маркеса… Даже достаточно одного романа «Сто лет одиночества». То есть ощутить часть лучше, чем всю жизнь охотиться за целостностью, которой, кстати, нет…
(Неслышно отделяются от нас оболочки. Вот они, как сигаретный дым, взлетают вверх, все выше и выше… Здесь, в лесу, прохладно, поэтому они оказываются в незнакомой комнате, где в тяжелых рамах текут зеркала, а в них роятся сладкие сонные пчелы…)
– Жизнь – привычка. Человек в ней – самое негармоничное существо. Потому что он рефлектирует на каждом шагу и на каждом шагу врет, врет. Себе и другим. Представь, как было трудно Галилею внушать толпе невежд то, что он знал наверняка, что доказал математически и на что положил жизнь. И… отступить! Но представь, с каким надрывом, с какой энергетикой он выкрикнул свои последние слова о том, что «она вертится!» Но этот короткий отчаянный крик имел отголосок на многие поколения вперед. Возможно, больше, чем тома научных работ, появившиеся позже…
(…Вот под самым потолком эфемерные тела рассыпаются на тысячи молекул. Четыре глаза, словно бабочки, бьются в зеркала… Все переплетается в тяжелом единстве…)
– Гений – тот, кто при любых обстоятельствах способен чувствовать себя свободным. Это – свобода от жизни, но – противоположная самоубийству.
(…Четыре руки погружаются в длинные волосы… Закрытые глаза впархивают в зеркало, из их яблок выпадают черные зернышки. Атомный гриб, поднимающийся от пола, резко разбивает ртутную поверхность. Разъединение блестящих шариков… Возвращение в тело… Воздушная яма… Сердце в горле…)
– Когда ты очень счастлив… Нет, не о том счастье идет речь! Когда ты ОЧЕНЬ счастлив – запомни! – все в твоей жизни происходит В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. А все, что будет потом, – лишь хождение по кругу…
– Я знаю… А ты откуда знаешь об этом?
Я вздрагиваю, и он набрасывает на мои плечи свою куртку. Он думает, что мне холодно. Возможно, мне и вправду холодно, поскольку мы уже забрались довольно высоко и скоро дойдем до тех снегов. Честно говоря, я больше не хочу видеть снег. Но мне интересно, что там, на вершине этой горы.
– На самом деле, – говорю я, – Я НИЧЕГО теперь не знаю. Это так интересно. Это – как второе рождение, когда ты совсем новый и совсем ничего не знаешь о мире. Это такое кайфовое чувство. Все приходит в голову – само по себе. Она у меня совсем пустая. И мне порой кажется, что это НИЧЕГО гораздо важнее всей той информации, которая была в ней раньше.
– За этим я и приехал сюда – освободиться… – говорит он. – Тут удивительный воздух!
Он повторил фразу, которую я уже слышала от мсье Паскаля. Я засмеялась. Он меня понял, потому что и сам слышал это от него.
– Давай отдохнем.
Он садится на старую сосновую хвою, включает маленький транзистор, зажигает две сигареты (я смеюсь, смеюсь!) и одну осторожно вставляет в мои губы. Струйки одновременно выпущенного дыма переплетаются, как мы – час назад…
…Где-то… там…
за едва видимой завесой –
тонкой и шелестящей, как крылья ангелов, –
Ты
сидишь за столом
в кругу десяти горящих свечей.
Где-то… там…
Они вытягивают свои обольстительные язычки
и отпускают их путешествовать
между листьями салата, отбивными
и стаканами с вином…
Где-то… там…
Язычки ползут
и выедают на скатерти
черные дорожки…
Где-то… там…
Ты – весь в белом,
Ты – в венке,
Ты – в кругу друзей,
Ты – с женщиной, чьи волосы
Струятся между пальцами, как
китайский шелк…
…О, какая губительная юность!
Влажная и душная,
как бескрайние тропики
с попугаями на каждом дереве!
Где-то… там…
– Местная радиостанция, – объясняет он. – Это наши ребята. Те, что играют в бистро…