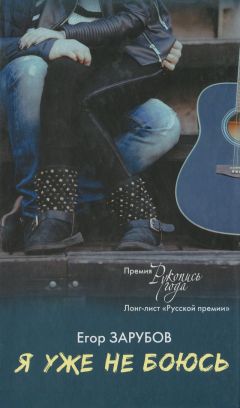Все-таки ломаюсь — и плачу, как последний чмошник. Юля вытирает мои слезы, собирает их губами с кожи. Я быстро успокаиваюсь. Стыдно плакать, да еще и перед Юлей. Отец всегда говорил мне: «Мужчины не плачут — они огорчаются». Больше не буду плакать. Никогда.
Мы говорим друг другу всякие глупости, вдыхаем друг друга, и я чувствую, что весь этот мир — даже эта сельская идиллия там, внизу, — против нас. А мы против них, как Ромео и Джульетта. Книжку не читал, но мы с Юлькой брали в видеопрокате фильм с Ди Каприо.
Когда мы вылетаем из лесного сумрака в окрепшее, припекающее солнце и несемся по полю, все снова нормально. Меня наполняет легкость — я не думаю о том, что осталось в Киеве. Даже об отце — легко не думать о нем там, где он никогда не был. Держусь за эту мысль: он здесь не был, это другая жизнь, в которой можно и без него. Я просто подставляю лицо ветру, мчусь вперед на дребезжащем старом велосипеде, и каждая доля каждого мгновения сейчас пьянит, дурманит, кружит голову.
На перекрестке мы прислоняем велосипеды к горе старых бетонных блоков и идем к растущей у дороги шелковице. Набухшие ягоды лопаются в пальцах. Я ем их одну за другой, постоянно хочу остановиться после следующей, но не могу. Говорю об этом Юле, вижу ее синие от сока губы, смеюсь. Она тоже смеется. Мы смеемся, едим шелковицу и не можем остановиться.
Когда мы наконец добираемся до дачи, кажется, что с утра прошло несколько столетий, но Китаец со Жменом до сих пор храпят, а на часах только половина девятого. У Юлькиного велика спустило заднее колесо: пробило шипом акации. Закатываю его в сарай.
— Поехали на «Металлист». Вчера вроде договаривались там встретиться утром, — говорит Юля, потягиваясь.
— Давай. Только камеру тебе поменяю.
— Не надо, поедем на твоем.
— Этих дятлов будем будить?
— Проснутся — сами приползут. Погнали.
— Полотенце зацепи.
Мы снова едем по бетонке. Юля сидит на раме; на каждом стыке между плитами, когда велик подпрыгивает, ее пальцы сильнее сжимают мое плечо. Мы едем на базу отдыха «Металлист» — там прикольный пляж и бетонные плиты, на которых круто загорать.
Проезжаем ржавые ворота. Едем мимо облезлых домиков. В пыльных стеклах окон блестит солнце, за москитной сеткой в одной из форточек мелькает упитанная кошачья морда.
Проехав домики и приземистую коробку столовой, подъезжаем к наклонной бетонной плите, уходящей к зеленоватой от тины воде. Мы едва не падаем с велика, когда останавливаемся, и наш смех заставляет обернуться всю движуху внизу. Несмотря на ранний час, собрались почти все, кроме Жмена с Китайцем. Небось пришли рассвет встречать.
Долгопрудный, как обычно, плещется в воде с черным бубликом автомобильной камеры. Шкварка и Синеволосая (черт, надо узнать, как ее зовут) играют в карты. На коже девушки блестят капельки влаги, загорелую спину перерезает полоска бледной кожи от завязок купальника. Бетон тоже поблескивает осколками битого стекла, будто инкрустирован изумрудами. И вода сверкает растворенным в ней солнцем.
Блестящий мир.
— Алоха, — говорит Юля, шлепая вьетнамками по бетону.
— Хай, — машет рукой Алла, не оборачиваясь. Она сосредоточенно красит ногти на правой ноге; глянцевый черный лак на пальцах искрится, как разлитая по морской глади нефть.
— Блин, не заглядывай в карты мне! — кричит Синеволосая и хлопает Шкварку карточным веером по лицу. Бубновый валет выпадает.
Рядом с картежниками бетон заканчивается, уступая место песку, в котором торчит частокол окурков: белых и тонких, с розовой помадой на фильтрах, и толстых, рыжих, с пожеванными краями.
Шкварка дает Синеволосой щелбан, вскакивает и, хохоча, бежит в воду. С шумом плюхается, разрезав тинистую зелень. У него красная, сгоревшая на солнце спина. Скоро облезет, как плечи у Долгопрудного.
Синеволосая берет с подстилки мобильник, который ей подарили родители на днюху. Связи тут нет, но можно поиграться в «змейку». Больше ни у кого мобилок нет, хотя Долгопрудный вроде собирается купить, когда накопит бабки. Он подрабатывает, строит второй этаж гаража для бати Шкварки.
— Кстати, забыла спросить… Как твои родаки отреагировали? — говорит Юля, кивая на спину Аллы, где уже неделю красуется черная татуированная змея. Сейчас ее окружает алая россыпь комариных укусов.
— Мамаша чуть мозги воплем не вышибла, — улыбается Алла. — Потом попустилась. Папе вроде по фигу. По-моему, ему даже нравится.
— Хочу такую же, — говорит Юля.
Я представляю змею на ее коже.
Из маленького китайского приемничка, который прихватил Долгопрудный, с шелестом, будто в динамик набился песок, пробивается сплиновская «Мое сердце остановилось». Алла оставляет ногти на левой ноге ненакрашенными и берет тетрадь. Стряхивает песок, открывает, щелкает ручкой, начинает рисовать. Вообще-то она делает крутые портреты — особенно учителей в школе, которых рисует на парте. Однажды она так намалевала химичку с выпученными глазами и высунутым языком, что мы ржали целый день. Но сейчас она в настроении рисовать своих любимых угловатых человечков с пистолетами, как те носятся друг за другом по ночному городу на странных зубастых машинах. Или инопланетян, которые убивают всех ядовитыми щупальцами. Алла прикольная. Блондинка, похожа на Мадонну.
Я расстилаю на бетоне зеленое полотенце и сажусь, скрестив ноги. Юля бежит купаться, потом возвращается, оставляя на бетоне мокрые следы; ложится, кладет мокрую голову мне на ноги, говорит:
— Наклонись чуть вперед. Чтоб тень была.
И надевает очки.
Я наклоняюсь, коротко целую ее. Духота, как пробудившийся ото сна монстр, уже прогоняет утреннюю прохладу. Я смотрю на сияющую воду и стену деревьев на другом берегу, дрожащую в нарождающейся дымке.
— По-моему, меня клещ укусил, — хмурится Шкварка, щупая шею сзади. Потом говорит Синеволосой: — Посмотришь у меня клещей?
— Давай. А потом ты у меня.
Алла смеется:
— Это такая дачная эротика — смотреть друг у друга клещей?
— Ага. Типа «Давай откроем бутылочку вина, зажжем свечи, поищем друг у друга клещей…» — отвечает Синеволосая, и все смеются.
Долгопрудный выныривает после очередного прыжка с длинной водорослью, прилипшей к лицу.
На реке появляется грузное белое тело пассажирского теплохода. Это один из тех, что ходят до Канева и обратно, хотя их почему-то называют «река-море». Сейчас он похож на белый жилой дом, ползущий по зеленому водному зеркалу, но вечером, в темноте, корабль напоминает светящийся изнутри айсберг, а с задней палубы доносится громыхающая музыка. Увидев эту громадину, я всегда представляю себе людей, которых он увозит куда-то прочь отсюда, из этой огромной серой трясины… Куда-то, где все по-другому… Порой я думал о том, чтобы броситься в темную воду и плыть, пока не доберусь до этой сияющей белизны, а потом забраться наверх и убраться отсюда навсегда…
А сейчас я смотрю на Юлю, на солнечный свет, распадающийся в черном пластике ее очков разноцветной радугой, и думаю: на хрен корабль.
Жмен с Китайцем уже проснулись. Жмена, как обычно, ночью загрызли комары — несгоревшие участки кожи покрыты красной дробью укусов.
Оставив велики у Юли, вместе идем к Долгопрудному. Там Алла и синеволосая подружка Шкварки колдуют над старой электроплиткой. Шкварка моет молодую картошку в умывальнике типа «мойдодыр», стыренном когда-то из руин пионерлагеря. Его к плитке не подпускают с прошлого лета — тогда этот придурок, спутав старый советский электрочайник с обычным, поставил его на горячий стальной «блин». А у чайника на дне были маленькие пластиковые ножки. Горелой пластмассой воняло на весь кооператив.
Завтракаем на веранде. Жмен выпивает бутылку пива, остальные пьют чай из старых треснутых чашек с отбитыми ручками. Потом мы с пацанами (кроме Жмена, которого Сан Саныч попросил помочь с ремонтом крыши) идем на поле играть в футбол, а девчонки — на пляж. На поляне уже бегают три чувака. Один из них, Репа, блестит лысым черепом. Он жутко картавит, шепелявит и столь же страшно матерится. Бегая от одних отмеченных кирпичами ворот к другим, он на все поле орет «шукаааа!!!» и «пидааааааа!». Мы ржем и включаемся в игру.
Когда возвращаемся, у меня содраны колени и правый локоть, шорты зеленые от травы, и каждый шаг отдается болью в лодыжке благодаря меткому удару Репы. От жары разгоряченное бегом тело будто плывет в кипятке. Срываю и прикладываю к локтю подорожник.
По пути заходим в магазин. Берем пиво, сигареты, чипсы и прочую хрень. Китаец просит Карандаша — продавца и хозяина, несмотря на полвторого уже изрядно бухого, — принести самогона. Пока Карандаш, что-то бурча, копошится корявыми руками в захламленной подсобке в поисках бутылок с мутной абрикосовой бурдой, Китаец под наш одобрительный хохот забирает горсть мелочи из картонной коробки для сдачи. Ею же платит за самогонку.