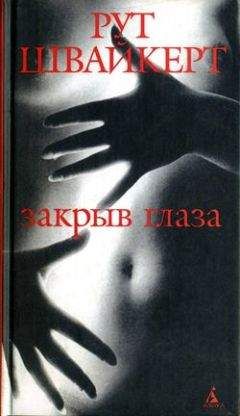И все-таки сегодня, в день своего тридцатилетия, она оставалась обладательницей наполовину дареной хозяйственной утвари в доме номер 62 на улице Парадизштрассе в муниципальной четырехкомнатной квартире с шестигранным, застекленным, пристроенным позже балконом, у нее было двое внебрачных детей и «хонда-доминатор», на котором она не умела и не имела права ездить. Оставленный одной подругой в обмен на три картины из цикла «Девятнадцать дней неопределенности», ярко-красный мотоцикл уже довольно давно стоял в каком-то гараже в Эннетбадене и, наверное, ржавел, с каждым днем теряя в цене, – Алекс нужно было сначала, после двух лет езды с инструктором, сдать экзамен по вождению мотоциклов с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а потом, еще через два года, – экзамен для мотоциклов свыше 125, – но у нее для этого не было ни времени, ни сил, ни денег.
Алекс посмотрела на часы, сунула две самые необходимые вещи – записную книжку и сигареты, в бумажную хозяйственную сумку и стала ждать переполненного автобуса, который довезет ее до дома на Парадизштрассе, на южную окраину города, на тот обыкновенный край света, где ее дети уже выдали соседке все приготовленные по дороге домой фразы, предназначенные Алекс; Оливер и Лукас, насквозь промокшие, сидели перед дверьми квартиры, и у каждого в руке был клубничный рожок. Алекс, нет, Рауль опять забыл оставить в ящике ключ. В почтовом ящике лежала только одна бумажка, уже третье Важное Сообщение за одну неделю, черным по розовому. Жирным шрифтом было напечатано обращение: «Уважаемая госпожа Хайнрих, мы хотели бы уведомить Вас…», и в конце опять жирным шрифтом: «Всего самого доброго» (даже смертный приговор, подумала Алекс, будет обставлен здесь таким же политесом); а в тексте шариковой ручкой обведены были слова: «Место работы», «Городская полиция». Ну понятно, это налоговый сбор. Алекс жила на стипендию для художников, которая то приходила, то почему-то отсутствовала, нерегулярными приработками вплоть до изнурительной работы в конторе «24 часа. Живой секс по телефону», причем, в отличие от того, что показано в фильме «Short Cuts»,[23] где некая домохозяйка совершенно равнодушно постанывает в трубку, меняя пеленки грудничку, Алекс впадала при этом в такое сексуальное возбуждение, что ей самой становилось не по себе. За ее же собственное удовольствие ей платили деньги пожилые толстопузые мужчины, которые лежали в постелях рядом со своими спящими женами и шептали ей что-то в трубку. Время от времени ей удавалось продать что-нибудь из своих работ; алиментов, которые выплачивал Филипп, едва хватало на то, чтобы покрыть расходы на медицинскую страховку и на дневную продленную группу для детей. Еще два-три года назад она постоянно тайком таскала из запасов родителей консервированное молоко, банки с ананасами, нарезанными кружочками, готовое фондю в консервных банках, которое они потом дома все вместе ели прямо со сковородки, стоя вокруг плиты, а Лукас и Оливер забирались с ногами на стулья, потому что специальной электроплитки, чтобы все это разогреть, у них не было.
Когда же приходили вот такие бумажки с требованием заплатить налог, имелись в виду, как правило, те смешные доходы, которые Алекс получала за французскую косметику, рассылаемую по почте, которая валялась где-то на книжной полке в льготной упаковке по две бутылочки сразу, нераспакованная, и срок ее годности неминуемо истекал. С поникшей головой поднималась Алекс каждые два месяца на второй этаж налоговой инспекции, где с иголочки одетые, тщательно накрашенные дамы предлагали оплату в рассрочку или грозили взыскать деньги по суду. Она брала платежную квитанцию, платила деньги сразу, и чиновники выражали нарочитое, плохо разыгранное удивление. Алекс клялась себе, что это в последний раз, что такого никогда не повторится. Чиновники изо всех сил старались соблюдать нормы конфиденциальности, словно они торгуют зубочистками или спреем для интимных мест, ведь эти нормы определяли минимальную дистанцию между людьми повсюду в этой стране. У окошек на почте или в банке, в трамвае, в съемном жилье и в супружеской постели переступать через эту жирную линию, видимую или невидимую, было запрещено. И в это же время на всех теле– и радиоканалах люди громогласно, на весь мир делились самыми интимными подробностями, признавались в самом заветном, иступленно откровенничали: я убийца, я проститутка, я ежедневно избиваю своего ребенка, и буду избивать впредь, я педофил, надо мной совершил сексуальное насилие мой собственный отец, вы, все вокруг, вы только послушайте меня, смотрите на меня все, и только ты одна не смотри, моя незнакомая соседка, мой ближний.
Тридцатилетний Пауль, получающий пенсию по инвалидности, старый приятель Алекс, который два года назад заболел СПИДом, недавно побывал в Лондоне на сходке таких, как он, там в Кэмден-Таун была устроена вечеринка, где бродили десятки людей, у которых на заднице, на их шортах от Кельвина Кляйна или на потрепанных кальсонах в рубчик можно было прочитать «hot ass with aids»;[24] а другие люди, в таких же кальсонах, быстро и молча сдергивали их и у всех на глазах, никак не предохраняясь, спешили совокупиться с этими «горячими задницами», потом поспешно одевались, проводили руками по волосам, словно отмахиваясь от чего-то, и торопились тут же улизнуть с вечеринки.
Лапша не доварилась, звонок воспитательницы о том, что Лукас опять плюется в одноклассников, не мог прервать ход мыслей Алекс; Оливер и Лукас как ни в чем не бывало ели спагетти без соуса, они жевали в ритме группы «Backstreet Boys», которые распевали по радио на всю кухню: «Nobody but you»,[25] и Алекс подумала о матери, в ту пору, когда ее болезнь еще ни разу откровенно не проявилась (а потом она некоторое время, пока только по ночам, часа в три, пыталась разогреть себе подгоревшие остатки ризотто, оставленные приходящей прислугой, или же, чаще всего, начинала запихивать их в рот прямо голыми руками, зажмурившись), она вспомнила, как Дорис Хайнрих, если дети, то есть Алекс и оба младших брата, Том и Рес, не хотели есть то, что она подавала на стол – шпинат или перловку, – тут же ставила все это прямо на пол, к телевизору, и дети, целиком погрузившись в далекие миры на экране, в какую-то стрельбу и извержения лавы, механически подносили вилки ко рту.
В эту пятницу Алекс исполнилось тридцать, ничего страшного, и вечеринки никакой не будет; скоро придет Рауль, на автоответчике три-четыре звонка – от Рауля, от Донаты, которая обожала черные кожаные сапоги выше колен, от Кристины, которая и вправду успела уже уехать в Копенгаген с единственным чемоданом в руках: «Welcome honey, join the club»,[26] и никакого этого чертова счастья, которое ей было предсказано, не свалилось на нее под вечер, когда она промывала ссадины Оливера, регулярно приносимые им домой в качестве трофея с футбольных тренировок.
Иногда ей не хватало Сильвио…
И возможно, прав был тот дерматолог, вечно страдающий кожными заболеваниями, с которым Алекс иногда случайно виделась около вокзала, в кафе «Аркада», и который ходил всегда в одних и тех же черных штанах из грубой кожи: «Начиная с тридцати солнце светит тебе прямо в лицо, и ты начинаешь волочить за собой свою тень, которая становится все длиннее и длиннее, а ведь еще совсем недавно солнце грело тебе спину и было для тебя трамплином».
Примерно в это же время, в половине девятого вечера, в те минуты, когда, тридцать лет тому назад, Александра родилась здесь, в Маленьком Городе, Дорис Хайнрих давно уже лежала в Кенигсфельдене, наглухо пристегнутая к кровати. С таблеткой рогипнола, засунутой в воспаленный рот, – у нее был кандидоз, Candida ablicans, следствие злоупотребления таблетками, – она, наверное, на целых десять часов сна, причем безо всяких сновидений, забудет о том, что вся ее жизнь в течение скоро уже пятидесяти одного года, все это усиленное выживание, которое она так раньше не называла и о котором только в пьяном виде кричала всем и каждому, отказываясь от каких-либо дальнейших пояснений, – короче говоря, вся эта ее жизнь была чистейшим издевательством.
Над городом в этот вечер висел какой-то пронзительный, высокий звук.
7. Если бы я была мальчишкой
Рано утром в конце семидесятых – начале восьмидесятых мать Алекс, бывшая служащая гостиницы Дорис Эрлахер, ежедневно в семь часов сорок минут выезжала на пригородном поезде на запад, к южному подножию Юры, в ближайший городишко, находившийся в соседнем кантоне, осененная благодатью даты своего рождения в 1931 году, которая позволила ей не быть ни преступницей, ни соучастницей военных преступлений, ни жертвой войны, в крайнем случае лишь безмерно пострадавшей, поскольку ее родители и младший брат погибли за полгода до окончания войны, предположительно во время бомбардировок Фрайбурга, когда они были в Брайсгау, ранним вечером 27 ноября 1944 года. «Не успев быть юной, я уже была старой», – так писала в своем стихотворении «1945», которое Алекс прочитала вскоре после похорон матери, писательница Инге Мюллер, пытаясь описать свое внезапное взрослое становление. «Я пошла за водой, и тут на меня упал дом», – писала она (всего три дня провела в Берлине, ей было тогда двадцать лет), погребенная под обломками, она выжила, и все только для того, чтобы тут же похоронить погибших родителей и двадцать один год спустя покончить с собой.