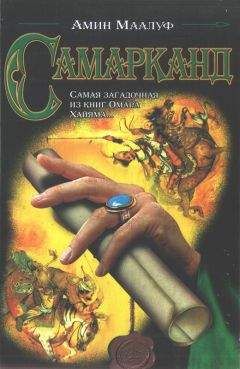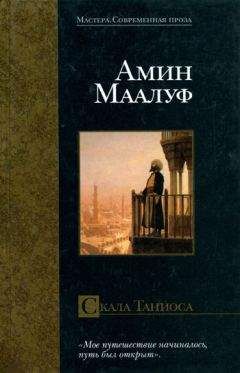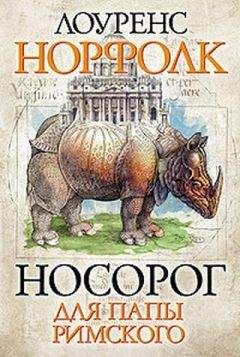Судьба назначила нам свидание на улице Старой Крепостной стены. Отец шел первым, держа меня и Мариам за руку, и обменивался парой слов с каждым встречным соседом, мать шла за ним, отставая шага на два, за ней Варда. Как вдруг раздался крик Варды: «Хуан!» При этом она остановилась как вкопанная. Справа от себя мы увидели молодого усатого солдата, пьяно хмыкавшего и пытавшегося понять, кто эта окликнувшая его женщина. Отец почувствовал опасность, бросился к Варде и, решительно взяв ее за локоть, проговорил вполголоса:
— Пошли домой, Варда. Во имя Иссы Мессии!
Голос его был умоляющим. Тот, кого Варда назвала Хуаном, был не один, а с четырьмя другими солдатами, вооруженными внушительными алебардами. Все они были навеселе. Прохожие расступились, не желая вмешиваться, но любопытствуя, что будет дальше.
— Это мой брат! — крикнула Варда и бросилась к юноше, который стоял как громом пораженный.
— Хуан, я Эсмеральда, твоя сестра!
С этими словами она вырвала руку у Мохаммеда и приподняла покрывало. Солдат подошел, обнял ее за плечи и прижал к груди. Отец побледнел и задрожал. Он уже догадывался, что теряет Варду, кроме того, был унижен в глазах всего квартала и уязвлен как мужчина.
Сам я не смыслил ничего в той драме, что разыгралась на моих глазах. Помню только, как солдат схватил меня. Он сказал Варде, что она должна пойти с ним, вернуться в их родное селение Алькантарилья. Варда колебалась. Обрадовавшись встрече с братом после пяти лет, проведенных вдали от родных мест, она вовсе не была уверена, что хочет так круто изменить свою жизнь и вернуться в отчий дом с дочерью, рожденной от мавра. Нечего было и рассчитывать выйти замуж. Кроме того, она не чувствовала себя несчастной с Мохаммедом-весовщиком — он ее кормил, одевал и не оставлял в одиночестве более чем на две ночи подряд. К тому же, пожив в таком городе, как Гранада, пусть и в нелегкие времена, мало кто захочет похоронить себя в деревушке в окрестностях Мурсии. Можно лишь вообразить, о чем она думала, когда брат нетерпеливо встряхнул ее:
— Дети твои?
У нее подкосились ноги, она прислонилась к стене и издала слабое «нет» и тут же «да». Вот в этот-то момент Хуан и бросился ко мне и сгреб меня в охапку.
Забуду ли я когда-нибудь вопль, который издала моя мать? Она кинулась на солдата, стала его царапать, бить, я тоже колотил его почем зря. Он выпустил меня и тоном упрека бросил сестре:
— Твоя только дочь?
Она словно онемела, Хуан воспринял ее молчание как знак согласия.
— Возьмешь ее с собой или оставишь им?
Тон его был на сей раз таким суровым, что несчастная испугалась:
— Успокойся, Хуан, умоляю тебя, я не хочу скандала. Завтра я возьму вещи и уйду в Алькантарилью.
Но солдат был настроен иначе.
— Ты моя сестра и ты сейчас же возьмешь свои вещи и последуешь за мной!
Ободренный растерянностью Варды, отец подошел ближе и твердо заявил:
— Это моя жена! — Сперва по-арабски, а потом на ломаном кастильском.
Хуан влепил ему такую пощечину, что отец, не устояв, рухнул на грязную мостовую. Мать заголосила как на похоронах. Закричала и Варда:
— Не бей его! Он всегда хорошо со мной обращался. Это мой муж.
Солдат, уже схвативший ее за руку, чтобы увести, заколебался и смягчился.
— Я-то думал, ты его пленница. Ты больше не принадлежишь ему, с тех пор как город в наших руках. Ежели это твой муж, как ты говоришь, что ж, оставайся с ним, при одном условии: он немедленно крестится, и священник благословит ваш брак.
Варда с мольбой повернулась к отцу:
— Мохаммед, соглашайся, иначе нас разлучат!
Воцарилась тишина. Кто-то выкрикнул в толпе:
— Аллах велик!
Отец не спеша поднялся с земли, с достоинством приблизился к Варде и голосом, в котором сквозило волнение, заявил:
— Можешь забрать свои вещи и дочь!
После чего под одобрительные возгласы направился к дому.
«Он не хотел пасть в глазах соседей, но все равно чувствовал себя униженным и бессильным, — отчужденно проговорила мать и добавила, пытаясь не допустить ни грана иронии: — Для твоего отца именно в эту минуту Гранада окончательно попала в руки неприятеля».
* * *
Мохаммед был безутешен, целыми днями не вставал с лежанки и даже отказывался от участия в ифтаре — традиционной трапезе с друзьями в связи с Окончанием Поста; однако никто на него не обижался, поскольку происходящее с ним в тот же день стало достоянием всего квартала; соседи приходили и приносили ему, словно больному, блюда, которые он отказывался есть у них. Сальма старалась вести себя незаметно, если и говорила что-то, то лишь в ответ на его вопросы, не позволяла мне докучать ему и сама избегала попадаться мужу на глаза, стараясь в то же время держаться поблизости, чтобы ему не повторять дважды свои просьбы.
Хотя на душе у нее кошки скребли, она сдерживалась, будучи уверенной, что время залечит его боль. Горше всего ей было убедиться, до какой степени Мохаммед был привязан к своей сожительнице, а в особенности то, как эта привязанность была продемонстрирована всему Альбайсину. Когда, уже став юношей, я спросил ее, не испытала ли она все же удовлетворения, когда ее соперница исчезла, она стала горячо отнекиваться:
— Умная жена пытается стать главной из жен мужа, понимая, что невозможно быть единственной. — И добавила наигранным тоном: — Что ни говори, быть единственной женой не так уж и приятно, это все равно что быть единственным ребенком. Больше работы по дому, больше устаешь, все приступы дурного настроения и все требования мужа приходится выносить тебе одной. Конечно, когда жены две или несколько, не обойтись без ревности, интриг, ссор, но это все по крайней мере не выходит за пределы дома, а вот когда муж отправляется в поисках радостей на сторону, для своих жен он человек конченый.
Без сомнений, именно по этой причине Сальма так разволновалась, когда в последний день рамадана Мохаммед вскочил с лежанки и решительным шагом вышел из дома. Только два дня спустя она узнала, что он ходил к Хамеду, так называемому ал-факкаку, гранадскому «вызволителю», который более двадцати лет занимался трудным, но прибыльным делом — выкупом мусульманских пленников у христиан.
В ал-Андалусе всегда существовали такие люди, ответственные за поиск пленников и их выкуп. Как и у христиан, которые давно уже ввели в привычку назначать «главного альфакеке». Нередко им являлся государственный чиновник высокого ранга, у которого было много подчиненных. Обычно о пропаже человека заявляла семья: это мог быть воин, попавший в плен, житель занятого неприятелем населенного пункта, крестьянка, уведенная во время набега. Факкак, либо его представитель, начинал поиски, наведываясь на вражескую территорию, добираясь порой до очень удаленных уголков страны, то переодевшись торговцем, то открыто, не скрывая своей миссии, а когда обнаруживал пленника, обговаривал размеры выкупа. Поскольку для многих семей размеры выкупа были непосильны, объявлялся сбор средств; ни одно пожертвование не ценилось верующими так, как то, что шло на выкуп единоверцев. Много благочестивых людей разорилось на выкупе пленных, которых они в глаза не видывали, не надеясь на иную компенсацию, кроме благоволения Всевышнего. Не то «вызволители» — среди них попадались отъявленные негодяи, что наживались на несчастье других.
Хамед был не из их числа, свидетельством чему было его скромное жилье.
«Он принял меня с холодной учтивостью человека, которого без конца о чем-то просят, — рассказывал отец, о многом умалчивая даже годы спустя. — Предложил сесть на мягкую подушку и, расспросив о моем здоровье, осведомился о цели моего визита. Когда я поведал ему о том, что привело меня к нему, он не удержался и расхохотался, после чего еще и закашлялся. Обидевшись, я встал, чтобы уйти, но Хамед удержал меня за рукав. „Я тебе в отцы гожусь, — сказал он, — не след тебе обижаться на меня. Не воспринимай мой смех как оскорбление, а лишь как дань твоей невероятной храбрости. Так, значит, особа, которую ты желаешь выкупить, не мусульманка, а кастильская христианка, которую ты осмелился держать у себя пленницей в течение восемнадцати месяцев после падения Гранады, в то время как первым приказом победителей было освободить в торжественной обстановке семьсот последних пленных христиан, остававшихся в нашем городе?“ Я только и мог выдавить из себя „да“. Он оглядел меня, надолго задержавшись взглядом на моей одежде, и, рассудив, что перед ним, без сомнений, уважаемый в обществе человек, сделал мне следующее предложение, благожелательно и медленно выговаривая слова: „Сын мой, я могу понять твою привязанность к этой женщине, и ежели ты скажешь, что всегда хорошо к ней относился и любишь дочь, которую она тебе родила, я тебе охотно поверю. Но пойми и другое — не со всеми попавшими в рабство обращались так хорошо как у нас, так и в Кастилии. По большей части их заставляли день-деньской таскать воду или изготавливать сандалии, а на ночь, как скот, сажали на цепь в каком-нибудь подвале. Тысячи наших единоверцев до сих пор пребывают в таком положении, и никому до них нет дела. Подумай о них, сын мой, и помоги мне выкупить нескольких из них, это лучше, чем гоняться за химерой, ибо, поверь мне, никогда больше на андалузской земле мусульманин не сможет отдавать приказаний христианину и даже христианке. Если же ты будешь упорно стремиться вернуть эту женщину, тебе придется перейти в христианство. — Тут у него вырвалось проклятие, он закрыл лицо ладонями и продолжал: — Проси терпения и смирения у Аллаха, только в нем твое спасение“.