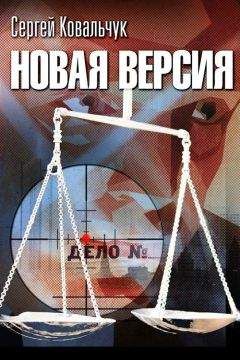И только потом, когда женщина говорила с режиссером и мелькнуло слово «репетиция», я неожиданно все понял. Ну конечно, это был просто театр! Такой театр, где все поют – на таком спектакле я заснул когда-то в Ленинграде. Значит, это просто фильм о театре, а «Dancer in the Dark» – вероятно, название пьесы. Открытие это наполнило меня невероятным разочарованием. Они репетировали, кто-то отстукивал ритм по деревянной поверхности, пели хором; значит, была сцена убийства, сцена бегства; сейчас ее должны все-таки поймать, в театре преступника всегда ловят. И действительно, дальше появлялись адвокаты, полицейские, лязг металлических решеток; я почти перестал следить за действием и снова начал думать о том, что после сеанса нам придется попрощаться, и я больше никогда не смогу ее встретить. Она по-прежнему сидела неподвижно, непостижимо, наверное, ей было немного жарко: тонкие струйки мокрого воздуха, чуть влажной ткани исходили от нее, бесконечно мягкие, немного детские – как у ребенка, который долго бегал во дворе, но – тише и ароматнее. Ее напряжение было спокойным, ее дыхание, эти мягкие струйки, исходившие из пор – все было ровно и убаюкивающе, сокровенно и сказочно.
Над залом снова взметнулась и полилась песня, надрывно и плачуще пела женщина, главная героиня фильма, без музыки, без сопровождения; голос пусто и одиноко звенел в зале, пытаясь найти точку опоры. Пение было прервано падением какого-то тяжелого тела, чего-то плотного – занавеса. И с задержкой в секунду люди в зале, множество людей, вздрогнули единым толчком, где-то далеко вскрикнули. Воздушная волна, вспугнутая этим движением, ударилась в экран и стены – и снова стало ненадолго тихо. Потом люди начали вставать, зал задвигался – фильм кончился.
Она еще сидела, пропускала людей мимо себя, потом наконец встала. Я тоже встал, надел очки, начал проталкиваться туда, куда все шли и откуда била свежая лучистая струя вечернего воздуха – к открытой двери.
Мы вышли в теплую ночь – люди снова толпились у кинотеатра, но не гудели, как до начала – говорили тихо и словно немного испуганно, как это случалось у меня в темном зале ресторана. Направо от выхода люди сидели в открытом кафе – там был запах сыроватых деревянных столов, и пар, поднимавшийся над теплыми окружностями – чашками.
– Выпьем кофе? – спросил я с надеждой.
– Нет, спасибо, я немного тороплюсь, – рассеянно ответила она.
– Пожалуйста, пять минут! – попросил я.
– Ну хорошо, давай сядем!
Мы сели за тощий столик на металлических кривых ножках, заказали два кофе и какое-то время молча пили.
– Тебе понравился фильм? – спросил я наконец.
– Да! Спасибо тебе, очень хороший. Не совсем в моем вкусе, но очень сильно!
– Да, – ответил я, – действительно сильно. А почему не в твоем вкусе?
– Ну… я не люблю, когда мной так явно манипулируют, – нехотя отвечала она.
– Ну да, конечно.
– Все эти сцены вроде отнимания денег у бедной матери – понятно, чего от меня ждут – что я буду ее жалеть. По-моему, это слишком ясно.
Надо что-то возразить, а то я все время соглашаюсь, как болван, подумал я и сказал, сам не узнав своего голоса:
– Мне понравилось! Очень эффектная сцена!
– Ну да, – ответила она немного презрительно, – слишком эффектная! Или в конце, этот фон Триер обязательно хотел, чтобы все плакали. И многие плакали. Но мне как-то не хотелось плакать, наверное, именно поэтому.
– Ну да, – ответил я, – и мне тоже не хотелось. Я вообще не понимаю, почему все так реагировали.
Она допила кофе, немного приподнялась, снова, как в кино, напряглась: я договорю, и она встанет, скажет, что торопится, и уйдет…
– Не понимаю, – продолжал я, пытаясь остановить это ее движение, – ну да, театр, постановка, очень важно. Ну, не хлопали. Провалился спектакль. Но зачем же плакать? И пьесу ставили они не очень интересную. Я бы…
И тут что-то случилось. Она как будто осела на скамейке, съежилась, руки опустила на стол, и ее лицо стало немножко ближе ко мне.
– Подожди-подожди, – заговорила она мне прямо в лицо, и ее голос впервые стал заинтересованным, даже немного тревожным, – подожди, что за ерунда? Какой театр? Какая пьеса?
– Ну, пьеса… Которую они ставили с этой женщиной, где еще все пели.
– Я про конец фильма говорила. При чем здесь пьеса?
– Ну, там занавес упал – и никто не аплодировал. И песню не дали закончить…
Она молчала, должно быть, вглядываясь в мое лицо – ее дыхание, сладкое, ароматное, смешанное с запахом кофе, скользило по моему лицу, легко щекотало маленькие волоски на моих щеках, холодило бритую область под носом. Пару раз она шумно выдохнула, словно хотела что-то сказать и не могла.
– Сними очки! – наконец сказала она. Я не шелохнулся.
– Пожалуйста, сними очки! – повторила она.
Я медленно взялся за пластмассу и открыл, подставив под вечерний воздух, свои глаза.
– Господи, как же я… – тихонько сказала она. – Зачем? Зачем же ты тогда позвал меня в кино?
У Александерплац шумели машины, тихо говорили люди, шуршал ветер, пахло свежей землей, травой, кофе, мокрым деревом, крашеным металлом, штукатуркой, тканью, орехами и бетонной пылью. Что-то изменилось в воздухе, какая-то пропорция, молекулы его разошлись по шву, раздались в стороны, пропуская что-то, и это что-то, несказанно мягкое, невероятно нежное и теплое-теплое надвинулось на меня. Ее рука опустилась мне на голову и погладила мои волосы – еле касаясь их, горячая, как остывающий мотор, мягкая и мокрая, как вспаханная земля. Она искрила, эта рука, от нее в голове бегали колючки, что-то замыкалось и размыкалось.
– Зачем? – спрашивала она тихо. – Зачем?
– Я думал, тебе так со мной неинтересно. У нас ведь плохо было с общением.
– Ну да, но ведь… Почему ты не сказал? Я бы и не догадалась… Ты вообще ничего не видишь? Я подумала, что ты странный, но…
Она еще долго что-то бессвязно говорила и спрашивала. Потом я начал рассказывать. Я рассказывал долго и много – я люблю говорить, а вот уже несколько лет говорить было не с кем. Она слушала, спрашивала. Потом мы ушли из кафе и гуляли по городу. Она спрашивала, я рассказывал, потом спрашивал я, она что-то коротко отвечала – мы наконец-то разговаривали.
БЕРЛИН
Оказаться в полной темноте, закрыв глаза, невозможно. Свет есть везде – никакая повязка, никакая комната без окон не даст полной темноты. Так что бесполезно пытаться, выключая свет и зажмуривая веки, представить себе ту бесконечную черноту, в которой оказывается человек с удаленными глазными нервами. Упражнения у доктора дали только слабое представление, спасли от ужаса и безумия в первую минуту, когда кончилось действие наркоза. Было много голосов, много звуков вокруг, шаги, скрипы, хлопанье дверей – как когда просыпаешься, но не можешь проснуться. Был голос матери, он дрожал, был почти неузнаваем, объяснял, почему темно, а я пытался открыть глаза, открывал их – и ничего не менялось. Тогда темнота начала захлестывать меня, давить, душить, будто я тонул в океане, на глубине многих десятков километров, барахтался и не мог выплыть. Я орал, визжал и выл, верещал ультразвуком и захлебывался хрипом, пытаясь своим криком пробуравить темноту насквозь. Света не появлялось, я хватал мамины руки, на минуту успокаивался, потом хотел увидеть ее лицо и не мог, тянулся, хватал пустоту и снова начинал орать.
Не знаю, сколько этих дней было в больнице – дней мучительной паники и ужаса, сменяющихся оцепенением и меланхолией. Меня пичкали лекарствами, от которых по телу шла водянистая дрожь, я снова валился в необъятные воронки – засыпал и падал, просыпался, словно ударяясь о дно. Когда врачи посчитали, что я более или менее оправился от первого шока, меня выписали домой – мы ехали в машине, и снова был ужас и крик от всепроникающего запаха бензина, от страшного колыхания пола под ногами, от вязкого и пронизывающего, липкого, как нефть (из которой делают бензин), движения вперед, иногда – вправо или влево, тогда все закручивалось в бездонные спирали, и меня неудержимо тошнило.
Был дом, знакомые запахи, знакомые звуки, и опять хотелось разодрать, пробить, прорвать чем-то темноту, увидеть стол на кухне, мою кроватку, железную дорогу – пальцы щупали все это, путались и терялись в бесконечных изгибах, выемках, трещинках и царапинах, и постепенно стол исчезал из сознания, на его месте оставалась эта путаная комбинация ощущений.
Мы собирались в Германию – отец сказал, что мы теперь будем немцами, как мой дед, и будем жить в Берлине. Мать почти ничего не говорила, постоянно гладила меня, ласкала, иногда просто стояла надо мной, думая, что я ее не вижу – но я чувствовал ее запах, и еще что-то непонятное, отчего сразу понималось, что она здесь.
Прошла долгая зима, я не выходил из дома и только чувствовал тонкие струйки холода, свистевшие из-под окон, и вялый жар батарей, неровно замазанных толстым слоем краски. Новый год, тихий и какой-то скорбный, гости, говорившие почти шепотом, – их ноги испуганно шарахались в сторону каждый раз, когда я проходил мимо. Мне подарили проигрыватель и кучу пластинок, книжки, которые мама обещала мне читать на ночь – я непослушными пальцами разрывал шуршавшую неподатливую упаковку, а мама мне помогала.