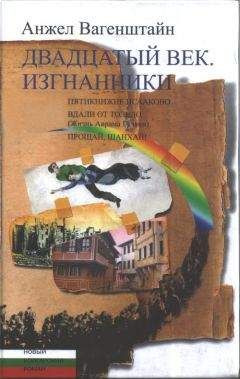У Владека вдруг возникло чувство, что Хильды с ним нет.
— Алло, ты здесь? — спросил он. — Понимаешь, что я хочу сказать? Или хотя бы пытаешься понять? Это ведь тоже важно для общей культуры.
Хильда перегнулась через стол и погладила его руку.
— Я тебя люблю.
— Снова?
— Уже.
53
Этим вечером Элизабет пришла в «Синюю гору» раньше обычного: уж лучше здесь, чем под лестницей бывшего завода, где все ей стало невмоготу — топавшие по ступеням над самой ее головой люди, хаос, царивший вокруг треугольной, выгороженной кусками фанеры норы, которую соорудил для них Теодор. Его самого, как всегда, не было дома… дома? Какой еще дом?! О, Господи! К его удивлению, хозяин «Империала» не поспешил найти ему замену в тот пропущенный из-за поездки в Циньпу день, и позволил Теодору вернуться на работу. Правда, поворчал для порядку.
Вверх и вниз носившиеся дети тоже действовали Элизабет на нервы, не говоря уже о стариках, которые со скуки вели бесконечные политические дискуссии в двух шагах от ее тоненькой перегородки. Всех взвинтили вести из Сталинграда, хотя серьезная информация частенько была приправлена сногсшибательными домыслами вроде того, что театральным шепотом поведал безымянный фантаст: в Берлине произошел военный переворот, Гитлер покончил жизнь самоубийством. Но даже это не проняло Элизабет, до того все вокруг ей опротивело.
В «Синей горе» у нее была хотя бы сравнительно тихая гримерная, в которую мир мог проникнуть только через малюсенькое, к тому же зарешеченное и расположенное высоко под потолком оконце. Пока внизу, в зале, Мадьяр без зазрения совести вольничал с Гершвином и Штраусом, ей удавалось подолгу оставаться в одиночестве.
Сегодняшний вечер начался с сюрприза: хозяин заведения Йен Циньвей оставил перед ее зеркалом белую розу, нефритовый флакон с каким-то восточным благовонием и карточку с надписью «Happy Birthday!» Большинство китайских предпринимателей в качестве гарантии порядочности держали у себя паспорта тех, кого они нанимали на работу; так что о дне рождения Йен Циньвей знал из ее паспорта. Подношения же были знаком внимания к певице, чей немецкий репертуар привлекал в его заведение все больше клиентов: английских и американских моряков в Шанхае не стало, зато число немецких резко возросло.
Йен Циньвей не знал, что его доморощенная Зара Леандр была больна душой, и ничто не могло ее обрадовать. Все окружающее вызывало у нее отвращение: Шанхай в целом, Хонкю в частности, этот моряцкий кабак, все китайское, все еврейское — в том числе собственный муж… но, как ни странно, она не испытывала при этом ни малейшей ностальгии по Германии. Что удивляло даже ее саму. Похоже, Элизабет не испытывала не только ностальгии, но вообще ничего, кроме всесокрушающей усталости и неутолимой жажды тишины — по контрасту с шумным до помешательства бытом завода металлоконструкций. Реальный мир она покинула, и единственное, чего ей хотелось, это лечь, завернувшись в тишину, вытянуться в полный рост и уснуть. Надолго, на целую вечность.
Сидя в белье перед трельяжем, Элизабет все никак не могла собраться с силами и надеть свое сценический туалет: длинное, плотно облегавшее фигуру платье из блестящей золотистой ткани. На нижнем этаже, в ресторанном зале, ранние пташки уже заказывали по первой. Оттуда в ее гримерную как из-под земли доносились звуки фортепьяно. Гершвин, «Американец в Париже».
Немка в Шанхае.
Вглядываясь в свое отражение в пожелтевшем, с облезшей амальгамой зеркале, она провела ладонью по паутинке мелких морщин, загнездившейся в углах ее глаз: тридцать восемь! Вся жизнь уже позади, ни плохое, ни хорошее в ней больше не повторится. Заднего хода у колеса времени, как известно, нет. Может, она совершила ошибку, приехав в Шанхай. Или ошибкой было бы бросить Теодора и остаться в Дрездене? Да какая разница! Все равно ведь у жизни нет другого варианта, кроме того, что состоялся. Улица с односторонним движением, без права поворота в обратном направлении.
Легонько постучавшись, в дверь заглянул господин Йен Циньвей.
— Вы позволите? — деликатно спросил он, и скользнул внутрь, не дожидаясь ответа. — Надеюсь, не помешал? Хотел вот поздравить вас с праздником, пожелать счастья и новых успехов.
Взглянув на него в зеркало, она набросила на голые плечи длинную шелковую шаль с бахромой, устало поднялась и боком присела на край столика, лицом к хозяину.
— Спасибо вам за розу и за духи, господин Йен. Я, по правде сказать, и забыла про свой день рождения. Вы единственный, кто о нем вспомнил — и за это вам тоже спасибо.
— Что вы, что вы? Как же иначе? Вы ведь моя звезда, чудесная, незаменимая!
— Мне очень приятно от вас это слышать… — едва обронила Элизабет, и глубокое равнодушие ее тона ярко контрастировало со смыслом сказанного. В следующий миг Йен заключил ее в объятия, обдав густым облаком популярного на Востоке благовония из индийских пачулей, жарко задышал. Изо рта у него пахло виски.
— С праздником вас! Вы позволите… в щечку? — выпалил он и сдернул шаль с ее плеч. Багровая физиономия с сальной, усеянной крупными порами кожей плотно придвинулась к лицу Элизабет, редкие зубы прикусили ее нижнюю губу, гуще понесло перегаром. Господин Йен сегодня начал прикладываться рано.
Элизабет с отвращением его оттолкнула, но куда там! Сопротивление только еще больше его раззадорило. Отступать было некуда, за спиной трельяж… и тогда она хлестнула Йена по щеке тыльной стороной ладони.
— Вон отсюда, негодяй! Сию секунду проваливай, смрадная, жирная, отвратная скотина!
Йен Циньвей переспал с половиной работавших в «Синей горе» женщин и привык к их чуть ли не рабской покорности. На миг он от неожиданности замер, но тут же глаза его налились дикой, необузданной яростью.
Тихо-тихо, но ясно подчеркивая каждый звук, он произнес:
— Вот, значит, как ты заговорила! Я твой хозяин, шлюха немецкая, понятно? Я Йен Циньвей, и я никому не позволю поднимать на меня руку! — и он с размаху отвесил Элизабет пощечину, от которой, как ей показалось, ее голова чуть не слетела с плеч. Резко обернувшись, он вышел, хлопнув за собой дверью.
Она медленно опустилась на стул, провела рукой по горевшему от пощечины лицу, надолго погрузилась в бездумное, летаргическое оцепенение, из которого ее вывел приступ внезапного, непреодолимого гнева. Что было сил, Элизабет запустила нефритовый флакон в собственное отражение. Зеркало пошло зигзагообразными трещинами, которые расчертили ее утомленное лицо на неровные треугольники, заляпанные смолистой желтоватой жидкостью все с тем же тяжелым запахом. Пачули.
— Разбитое зеркало, — вслух сказала она. — Семь лет несчастной любви. Еще целых семь лет?!
Внизу, в ресторанном зале, Мадьяр оставил в покое Гершвина и перешел на немецкие и австрийские мелодии — знак, что скоро ее выход. С трудом поднявшись, Элизабет сбросила практичные городские ботинки, в которых ходила по Хонкю, и хотела было переобуться в изящные сценические туфли, когда из одной из них с писком выскочила перепуганная крыса и, скользнув по ее ноге, скрылась под шкафом.
У Элизабет вырвался вопль ужаса и отвращения. Только после этого она отчаянно, неудержимо разрыдалась, прислонившись пылающим лбом к беленой, прохладной стене.
Через полчаса Мадьяр потерял терпение и поднялся в гримерную. Дверь оказалась заперта. Он постучал, но не получил никакого ответа. Постучал еще раз. И еще. Тишина.
Дверь взломали и обнаружили Элизабет — бывшую звезду Карнеги-холла, меццо-сопрано Элизабет Мюллер-Вайсберг — в петле из перекрученной шелковой шали, которую она привязала к решетке единственного в комнате оконца высоко под потолком.
54
После полуночи Теодор Вайсберг пришел в «Синюю гору», как всегда пешком, чтобы на рикше отвезти жену в Хонкю. Публика еще не начинала расходиться и вовсю ухаживала за девицами, в зале было накурено, и бармен еле успевал выполнять заказы. Хозяин заведения Йен Циньвей в полной прострации привалился к стойке бара со стаканом виски в руке. Завидев Теодора, он бросился ему навстречу, отвел в сторону и, пьяно заикаясь, попытался деликатно сообщить, что произошло.
На другом конце зала Мадьяр на мгновенье прервал музыку, бросил сочувственный взгляд на Теодора, до которого никак не могло дойти, в чем дело, и тут же, словно испугавшись, что его заподозрят в соучастии, снова ударил по клавишам. Трагическое самоубийство певицы глубоко его потрясло, но не умея выразить обуревавшие его чувства, Иштван Келети замкнулся. Он знал за собой эту душевную неуклюжесть, способность допускать конфузные оплошности в чрезвычайных обстоятельствах, а потому решил ни во что не вмешиваться.
…Белый, как стена гримерной, Теодор не отводил глаз от Элизабет, которую положили на жесткую китайскую кушетку; он все еще не до конца сознавал, что она мертва. Что это навсегда, бесповоротно — без права развернуться в обратном направлении. Стало плохо женщине, пришлось прилечь, сейчас она поднимется и все встанет на свои места. Мадьяр молча протянул ему сигарету, Теодор ее машинально взял, прикурил, но даже никотин не дошел до его сознания.