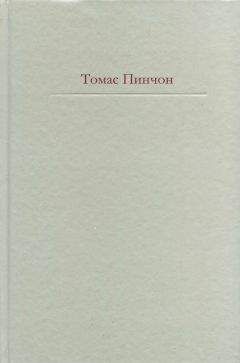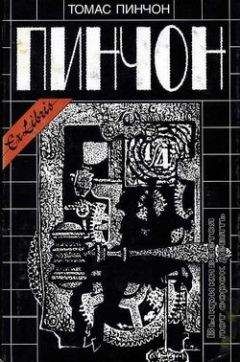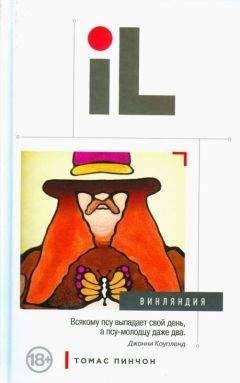Ленитроп на ощупь переползает к следующему трапу, мучительно и одноруко начинает спускаться. Чувствует, как вокруг вверх ползет стальное отверстие.
— Не пытайтесь возвращаться, пока не сделаете того, что должны.
— Танатц? — У Ленитропа болит язык. Имя выдавливается неуклюже. Молчание. — Моритури? — Нет ответа. Ленитроп переставляет ногу на ступеньку выше.
— Нет-нет. Я еще здесь.
Он по чуть-чуть продвигается вниз, весь трясясь, ступень за ступенью, и руку начинает покалывать. Как ему спуститься? Как подняться? Ленитроп старается сосредоточиться на боли. Наконец ноги его упираются в стальную плиту. Слепота. Он перемещается к правому борту, при каждом шаге втыкаясь в края на уровне лодыжки, с острыми выступами… Я не хочу… как я могу… дотянуться назад… голыми руками… что, если…
Вдруг справа — взвыв, какая-то механика, — он подскакивает, дыханье морозом всасывается сквозь зубы, нервы в спине и руках туда-сюда, дергаются… он достигает цилиндрической преграды… может, и генератор… нагибается и начинает… Рука его комкает жесткую тафту. Ленитроп отдергивает руку, пытается распрямиться, бьется головой обо что-то острое… ему хочется отползти обратно к трапу, но он уже потерял всякую ориентировку… он присаживается на корточки, оборачивается кругом, медленно… хоть бы закончилось, ходьбызаконч… Но руки его, лазая по палубе, возвращаются к скользкому атласу.
— Нет. — Да: крючки и петли. Он ломает ноготь, стараясь потерять их, но они не отстают… кружево шевелится по-змеиному уверенно, запутывая, связывая каждый палец… — Нет… — Ленитроп подымается до полуприседа, утыкается во что-то, свисающее с подволока. Ледяные худенькие бедра во влажном шелке, качаясь, шелестят по его лицу. Пахнут морем. Он отворачивается, но тут его по щеке хлещут длинные мокрые волосы. Куда бы он теперь ни повернулся… холодные соски… глубокая расселина меж ее ягодиц, духи и говно и вонь рассола… и вонь чего… чего…
Когда зажигается свет, Ленитроп стоит на коленях, осторожно дышит. Он знает, что придется открыть глаза. Теперь отсек смердит подавленным светом — смертными возможностями света, — как тело во времена великой грусти ощутит свои подлинные шансы на боль: подлинную и ужасную, и лишь в нескольких дюймах под порогом… Бурый бумажный кулек — в двух дюймах от его колена, засунут за генератор. Но дело в том, что танцует, смертельно-белое и алое, на самых краях его зрения… и впрямь ли трапы обратно, наверх и наружу, так пусты, как кажутся?
Шпрингер, снова на судне фрау, на открытой палубе с бутылкой шампанского — спасибо «Анубису», — раскручивает блестящие проволочки и пуляет пробкой в прощальном салюте. Руки у Ленитропа трясутся, и он почти все проливает. Антоний и Стефания смотрят с мостика, как расходятся два судна, сквозь их глазницы виднеется балтийское небо. Ее белые волосы — в прядях пены, скулы ее — лепной туман… облако-муж, тумано-жена, оба они убывают, отчужденные, безмолвные, обратно в сердце бури.
Фрау берет курс зюйд, вдоль другого берега Рюгена, в проливы мимо Буга. Буря не отстает, а ночь меж тем спускается.
— Зайдем в Штральзунд, — ее исчерканное каракулями лицо все течет смазочно-зеленой тенью, желтым светом, потому что в рубке покачивается масляная лампа.
Там-то и выйду, прикидывает Ленитроп. Двину в этот Куксхафен.
— Шпрингер, как считаете — успеете мне вовремя бумаги раздобыть?
— Ничего не могу гарантировать, — грит Герхардт фон Гёлль.
В. Штральзунде на набережной под фонарями и дождем они прощаются.
Фрау Гнабх целует Ленитропа, а Отто дарит ему пачку «Нежданной удачи». Скакун отрывает взгляд от зеленой книжицы и поверх пенсне кивает: auf Wiedersehen. Ленитроп отчаливает — по сходням на мокрый Hafenplatz[317], морской походочкой пытаясь компенсировать ту качку, что оставил позади, мимо бонов и мачт, и натянутого такелажа дерриков, мимо докеров ночной смены, что разгружают скрипучие лихтера на деревянные платформы, мимо горбатых лошадок, целующих бестравные камни… прощанья в карманах греют ему пустые руки…
Где Папа тот, чей посох расцветет?
Ее гора в шелках влечет меня,
Рабами, ароматами дразня,
Пресуществляя муки в небосвод,
К заре пречистой, к узам, что поют,
Хлыстам, что метят призраками плоть.
На милости стихий, я зов ее алкать Готов всегда, как сумерек уют.
Удел Лизауры не стонет мне вослед.
Пред светом его камня пал я ниц,
Как скептик, исповедь моя горька…
В последней буре, что занозой бьет, —
Ни песен, ни желаний, ни вины
И нет пентаклей, чаш и Дурака…
Бригадир Мудинг умер еще в середине июня от обширной инфекции E. coli, причем в конце беспрестанно хныкал: «У миня малютка Мэри бобо…» Случилось это перед самой зарей, как он и хотел. Катье подзадержалась в «Белом явлении» — бродила по дембельнутым коридорам, дымным и покойным по концам всех опустелых клеточных решеток в лаборатории, сама как принадлежность пепельной паутины, сгущающейся пыли и засиженных мухами окон.
Однажды она отыскала яуфы кинопленки, небрежно сложенные Уэбли Зилбернагелом в прежнем музыкальном салоне: теперь его занимал лишь рассыпающийся клавесин «Витшайер», на котором никто не играл, плектры и демпферы позорно сломаны, струны оставлены диезить, бемолить или корежиться под деловитыми кинжалами непогоды, что неумолимо совалась во все помещения. Так вышло, что Стрелман в тот день был в Лондоне — работал в Двенадцатом Доме, засиживался за алкогольными ланчами со всякими своими промышленниками. Он что, ее забыл? Освободится ли она? Освободилась ли?
Вроде бы из всего лишь пустоты «Белого явления» Катье раздобывает проектор, заправляет пленку и фокусирует изображение на стене в водяных потеках рядом с пейзажем какой-то северной ложбины, где резвятся полоумные аристократы. В челсийском домике Пирата Апереткина она видит белокурую девушку — лицо такое странное, что Катье признает средневековые комнаты раньше, чем самое себя.
Когда же они… а, в тот день, когда Осби Щипчон обрабатывал грибы Amanita… Катье зачарованно созерцает двадцать минут себя в до-Рыбьей фуге. На что им вообще сдалась эта съемка? И ответ есть в яуфе, и отыскивает она его очень скоро: Осьминог Григорий в бассейне смотрит Катье на экране. Ролик за роликом: мигающий экран и монтажными склейками Осьминог Г., пялится — на каждом отпечатанная на машинке дата, продемонстрировано, как у твари вырабатывается условный рефлекс.
К концу всего этого необъяснимо подклеена, судя по всему, кинопроба не кого-нибудь, а лично Осби Щипчона. Со звуком. Осби импровизирует написанный им сценарий к фильму под названием:
«Начинаем с Нелсона Эдди, который фоном поет:
Алчность торчка,
О, алчность торчка!
Мерзости гаже нет наверняка!
Даже ложась на кроватку свою,
Ты превратишься в грязнулю-свинью,
Едва тебя торкнет АЛЧНОСТЬ ТОРЧКА!
Вот в городок въезжают два усталых с дороги ковбоя — Бэзил Ратбоун и С. 3. (он же «Лапуся») Сакалл. При въезде дорогу им преграждает путь Карлик, игравший главную роль в «Уродцах». У которого немецкий акцент. Он в городке шериф. На нем огромная золотая звезда, едва ли не полностью закрывающая грудь. Ратбоун и Сакалл с тревожными улыбками натягивают поводья.
РАТБОУН: Этого не может быть вообще, не так ли?
САКАЛЛ: Хуу, хуу! Канешьна, мошжет, шжялький ти наркоман, ти шже слишьком мноко шжьраль тот шжуткий кактус, какта ми ехаль по тропе. Нато пиль курить этот шляфний траф, што и я, я шже тепе кофорияь…
РАТБОУН (с нервной Тошнотной Улыбкой): Умоляю — мне только еврейской мамочки не хватало. Я-то знаю, что может быть, а чего не может.
(Карлик между тем принимает разнообразные позы крутого омбре и размахивает целой батареей гигантских кольтов.)
САКАЛЛ: Какта столько естишь по тропе — ты шже понимаешь, о какой тропе я кофорю, прафта, труслифы ти потонок, — сколько естиль по ней я, наутшишься отлитшять настояштшефо карликофого шерифа от каллют-синатсий.
РАТБОУН: Я не был осведомлен о существовании ни того класса, ни другого. Ты, очевидно, по всей этой Территории встречал карликовых шерифов — не мог же ты изобрести подобную категорию с ходу. И-или как? Знаешь, ты такой хитрец, что способен на что угодно.
САКАЛЛ: Сапиль скасать: «Ах ти старый мерсафетс».
РАТБОУН: Ах ты старый мерзавец.
Они смеются, выхватывают револьверы и обмениваются парой-другой игривых выстрелов. Карлик в ярости мечется туда-сюда, издавая писклявые вестернизмы с немецким акцентом, например: «Этот городишко слишком тесен для нас двоих!»