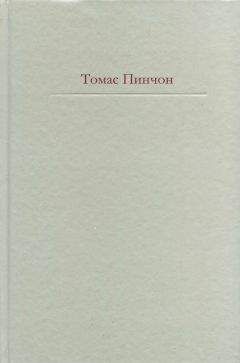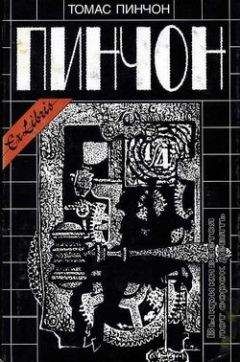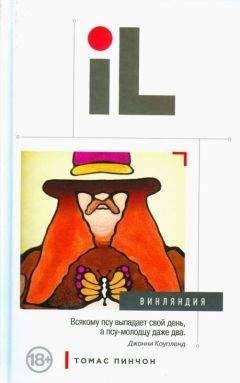САКАЛЛ: Сапиль скасать: «Ах ти старый мерсафетс».
РАТБОУН: Ах ты старый мерзавец.
Они смеются, выхватывают револьверы и обмениваются парой-другой игривых выстрелов. Карлик в ярости мечется туда-сюда, издавая писклявые вестернизмы с немецким акцентом, например: «Этот городишко слишком тесен для нас двоих!»
САКАЛЛ: Ну што, ми опа ефо фидимь. Знатшить, настояштший.
РАТБОУН: В нашем мире, коллега, и совместные плановые галлюцинации не редкость.
САКАЛЛ: Кто скасаль, што это планофый каллютсинатсий? Хуу, хуу! Если каллютсинатсий — хоть я и не кофорю, што это он и есть, — то это от пейоти. Или, мошжет, фонютшефо турмана…
Эта интересная беседа длится полтора часа. Без монтажных склеек. Карлик все это время крайне активен, он реагирует на обильные, изысканные и зачастую блистательные доводы. Время от времени кони срут в пыль. Осознает ли сам Карлик, что обсуждают его реальность, — неясно. Такова одна из искусных двусмысленностей фильма. В конце концов Ратбоун и Сакалл приходят к согласию, что единственный способ разрешить спор — это пристрелить Карлика, который расчухивает их намерение и с воплями удирает по улице. Сакалл хохочет так безудержно, что падает с коня в ясли, и нам является последний крупный план: Ратбоун улыбается этим своим неизъяснимым манером. Песня под финальное затемнение:
Даже ложась на кроватку свою,
Ты превратишься в грязнулю-свинью,
Едва тебя торкнет АЛЧНОСТЬ ТОРЧКА!»
Имеется и краткий эпилог, в котором Осби пытается отметить, что, разумеется, в сюжет нужно будет как-то ввести элемент «Алчности», дабы оправдать название, но пленка обрывается на середине «э-э…».
Катье совершенно обалдела, но послание распознать способна. Кто-то — тайный друг в «Белом явлении», быть может, и сам Зилбернагел, не столь фанатически преданный Стрелману и его компании, — намеренно поместил кинопробу Осби Щипчона сюда, где Катье наверняка бы ее нашла. Катье перематывает и запускает пленку снова. Осби смотрит прямо в камеру — прямо на Катье, никакой праздной торчковой суеты, он играет. Ошибки нет. Это и есть послание, код, и через некоторое время она взламывает его следующим образом. Скажем, Бэзил Ратбоун олицетворяет самого Осби. С.З. Сакалл может быть мистером Стрелманом, а карликовый шериф — всей темной грандиозной Аферой, свернутой в один некрупный кулек, уменьшенной, ясной мишенью. Стрелман утверждает, что она нереальна, но Осби шарит, что к чему. Стрелман оказывается в вонючей лохани, а заговор/Карлик исчезает, перепуганный, в пыли. Пророчество. Любезность. Катье возвращается к себе в незапертую камеру, собирает кое-какие пожитки в сумку и выходит из «Белого явления» — мимо нестриженых фигурных изгородей, отрастающих к былой реальности, мимо возвратившихся безумцев мирного времени, что незлобиво посиживают на солнышке. Некогда под Схевенингеном она шла по дюнам мимо водопроводных сооружений, мимо кварталов новых многоквартирных домов, заменивших снесенные трущобы, в опалубках еще цемент не просох, и в сердце у нее была такая же надежда на побег — перемещалась уязвимой тенью так давно, — шла на рандеву с Пиратом у мельницы под названием «Ангел». Где он теперь? По-прежнему живет в Челси? Да и жив ли вообще?
Осби, во всяком случае, дома, жует специи, курит косяки и двигается кокаином. Остатки военной заначки. Один роскошный взрыв. Не спал уже три дня. Сияет Катье, солнышко ярких красок шипами лучится из головы, помахивает иглой, только что вынутой из вены, в зубах зажата трубка, здоровенная, как саксофон, Осби напяливает охотницкую войлочную шляпу, коя сияния его солнечной короны отнюдь не пригашает.
— Шерлок Холмс. Бэзил Ратбоун. Я была права, — запыхавшись, роняет сумку на пол с глухим стуком.
Аура пульсирует, скромно кланяется. Кроме того, он — сталь, он — сыромятная кожа и пот.
— Хорошо, хорошо. Сын Франкенштейна там тоже есть. Хотелось выразиться прямее, но…
— Где Апереткин?
— Вышел раздобывать транспорт. — Осби ведет Катье в заднюю комнату, оборудованную телефонами, корковой доской, к которой сплошь пришпилены заметки, столами, которые завалены картами, расписаниями, «Введением в современный язык гереро», историями корпораций, катушками звукозаписывающей проволоки. — Тут пока не очень организованно. Но все движется, милая, все грядет.
То ли это, что ей кажется? Сколько раз пробужденная и отвергнутая из-за того, что надеяться не годится — вот так надеяться? Диалектически рано или поздно должна восстать некая сила противодействия… надо полагать, Катье никогда недоставало политики: недоставало на веру, что восстанет… что восстанет воистину, даже со всею властью на другой стороне…
Осби выволок складные стулья — протягивает ей пачку мимеографированных листов, довольно пухлую:
— Тут тебе кое-что невредно будет узнать. Не хотелось бы тебя торопить. Но конские ясли ждут.
И вскоре, когда его модуляции протекли сквозь комнаты великолепными (и некоторое время отвлекавшими) экспозициями бугенвиллейно-красного и персикового, Осби словно бы на миг стабилизировался до героя потерянной викторианской детской книжки, который не вполне от мира сего, ибо на ее сотую вариацию одного и того же вопроса отвечает:
— В Парламенте Жизни приходит время просто-напросто для раскола. Мы теперь в тех коридорах, что выбрали сами, движемся к Трибуне…
Дорогая мамуля, сегодня отправил пару человек в Ад…
Фрагмент предположительно «Евангелия Фомы» (номер оксиринхского папируса засекречен)
Кто бы мог подумать, что здесь такая толпа? Возникают то и дело по всей этой подозрительной структуре, то расхаживают в одиночку, погрузившись в думы, то разглядывают картины, книги, экспонаты. Похоже, это некий весьма обширный музей, где множество уровней, а новые крылья отрастают, будто живая ткань, — хотя если оно все и развивается до некоей конечной формы, тем, кто внутри, ее не видно. В некоторые залы входишь, рискуя жизнью, и на всех подходах стоят стражи, отчетливо о сем предупреждая. Движенье по этим коридорам — без трения, поверхностно и споро, зачастую безудержно, как на идеальных роликовых коньках. Длинные галереи отчасти открыты морю. Есть кафе, где можно посидеть и посмотреть на закат — или восход, в зависимости от расписания смен и симпозиев. Мимо ездят тележки с фантастической выпечкой, здоровенные, как мебельные фургоны: в них нужно заходить, шарить по бесчисленным полкам, и каждая новая откроет яства вязче и слаще предыдущей… наготове стоят повара с половниками для мороженого, дожидаясь лишь слова посетителя-сахароманьяка, дабы проворно вылепить «печеную Аляску» любого размера и отправить ее в печь… там есть ладьи пахлавы, начиненной баварскими сливками, украшенной завитками горько-сладкого шоколада, дробленым миндалем, вишенками с шарики для пинг-понга и воздушной кукурузой в топленом зефире и масле, а также тысячи сортов сливочной помадки, от лакричной до божественной — ее плюхают на плоские каменные столы, — и ирисок, все тянутся вручную и даже иногда за углы дотягиваются, лезут из окон, влекутся в другой коридор: э, простите, сударь, не подержите минуточку? благодарю вас, — шутник уже пропал, а Пират Апереткин остался, он тут совсем новичок и отчасти озадачен всем происходящим, держит клубок карамели, а кончик может оказаться где угодно… что ж, он вполне может стать путеводной нитью… пробирается дальше, довольно перекошенный, ярдами сматывая тянучку, периодически суя кусочек в рот — м-м, арахисовое масло и патока — ну вот, выясняется, что лабиринтову тропу, как Трассу Один там, где она проходит сквозь самое сердце Провиденса, нарочно проложили так, чтобы чужак совершил экскурсию по городу. Похоже, этот ирисочный трюк здесь — стандартная метода ориентации, ибо Пират то и дело пересекает тропу какого-нибудь другого новичка… часто не без труда они распутывают свои прядки ирисок, что тоже было спланировано как хороший спонтанный способ знакомить новеньких друг с другом. Экскурсия выводит Пирата в открытый двор, где вокруг делегата от Эрдшвайнхёле собралась небольшая толпа: до хрипоты спорят с какой-то шишкой от рекламы о чем же, как не о Вопросе Ереси, что уже есть камушек в башмаке сего Собрания, а того и гляди станет тем камнем, на коем все и преткнется. Мимо идут уличные артисты: акробаты-самоучки поразительно ходят колесом по мостовой, которая кажется опасно жесткой и скользкой, хоры казу исполняют попурри Гилберта и Салливана, мальчик и девочка танцуют не вдоль по улице, а вверх-вниз, обычно — по каким-нибудь большим лестницам, где следует дожидаться в очереди…
Продолжая сматывать тянучку в клубок, который уже довольно увесист, Пират минует Ряд Бобровой Доски, как его тут называют: здесь друг от друга древесноволокнистыми плитами отделены конторы всех Комитетов, и над входом натрафаречены названия — A4… ИГ… НЕФТЯНЫЕ ФИРМЫ… АОБОТОМИЯ… САМООБОРОНА… ЕРЕСЬ…