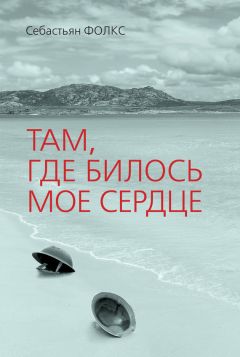– Доктор Перейра велел вам это передать и еще что он пошел спать. Если захотите читать у себя, там теперь есть электрическая лампа, я поставила.
Поднявшись в свою комнату, я снял пиджак, галстук и ботинки, придвинул вплотную к кровати обретенный торшер, поставил бочком подушки и привалился к ним спиной. Текст был отпечатан на плотной бумаге.
«… Итак, мы с вами установили, что личность человека формируется в огромной степени особенностями его памяти. Не тем, что человек помнит, а как именно он помнит.
Если вы вспоминаете какое-либо событие раз в неделю на протяжении тридцати-сорока лет, вы вступаете с ним во взаимодействие. Чем чаще вы его вспоминаете, тем сильнее изменяете. Вы не просто фиксируете свое прошлое, вы всякий раз его интерпретируете. И, возможно, это и есть главный процесс при формировании личности. Я, конечно, упрощаю, но примерно так все и происходит.
Проведенные мной в 60-х годах исследования показали, что как пациенты, так и здоровые испытуемые используют для хранения разных воспоминаний разные отделы мозга. Если я спрашивал: «Что вы ели сегодня на ланч?», данные изымались из одного, скажем так, ящичка. Название столицы Испании находилось в другом. А если я просил проехаться на велосипеде или проделать что-то еще, что испытуемые делали только в детстве, им приходилось выуживать сведения уже из третьего ящика.
Теперь это все уже доказано. И в один прекрасный день, когда наши помощники изобретут более мощные и изощренные считывающие устройства, мы будем располагать наглядными иллюстрациями вышеназванных процессов.
Двигаемся дальше.
Приходя к священнику или психотерапевту, человек рассказывает о тех событиях своей жизни, которые считает важными или значимыми. Очень часто упоминается или подразумевается нечто воспринимаемое как «травма», или, если не травма, то некая точка отсчета, разграничивающая «до» и «после». Делясь своими воспоминаниями, человек обнаруживает (грубо говоря), что способен изменить собственное восприятие давних событий, которые предстают уже менее драматичными. В чем причина этой примиренности со своим прошлым? Я полагаю, ответ тут может быть один: произошли изменения на нейронном уровне в самой памяти».
Перейра старался рассказывать про механизмы памяти доступным языком, учитывая степень подготовленности аудитории. А мне не терпелось добраться до конечных выводов.
«…Мои надежды основываются на следующем. Сначала мы посмотрим, как мозг осуществляет запоминание, какие его отделы при этом задействованы. Сохраняется ли информация вечно, если ею не пользуются? Сохраняется ли она целиком, так что вопрос только в том, как до нее добраться?
Идем дальше. Почему одни события закрепляются в памяти, а другие якобы утрачиваются? И третье. Мы рассмотрим, как наши вторжения во владения памяти формируют ее на уровне нервных клеток. Это поможет нам научиться искать ту информацию, которую мы считали навсегда утерянной. Уяснив все это, мы постараемся понять, до какой степени все, а если не все, то очень многое, зависит от нашей способности сортировать, уточнять и нейтрализовать воспоминания. А поняв это, мы научимся извлекать из памяти только действительно нужную информацию, восстанавливая давние события на уровне нервных процессов.
Кое-какие изыскания на эту тему легли в основу книги «Альфонс Эстев: человек, который забыл себя». Книгу я определил для себя как научно-популярную, поэтому опубликовал ее в Англии, чтобы не смущать и не сердить коллег-академиков…»
Я отложил папку и подошел к окну. Стиль у академика тяжеловат, впрочем, возможно, это предварительные записи, черновики, не предназначенные для посторонних глаз.
Ночь была ясной, небо ближе к югу усыпано звездами. Я спустился почистить зубы, а вернувшись, затворил ставни и лег спать.
В деревенском доме моего детства запретов было немного, но один соблюдался неукоснительно: мама не разрешала рассказывать сны. Говорила, что другим совсем не интересно знать, что тебе приснилось. На самом деле она, вероятно, боясь выдать себя, не подпускала никого даже к сновидениям. Мама никогда не говорила о своих чувствах, тем более обо всем, что связано с телесными проявлениями, – это же так стыдно. И меня, оттого что у нее не было мужа, она, похоже, слегка стыдилась. Словно я был плод греха, результат семяизвержения какого-то пришлого сезонного работяги. Когда люди смотрели на нее, на меня и снова на нее, она испуганно вздрагивала. Маме не хватало отца, но, насколько я понимаю, еще больше ей не хватало респектабельного статуса замужней женщины.
Верный ее заветам, мир ее праху, я не стану рассказывать, что мне приснилось в ту ночь на острове. Упомяну только, что это был сон про любовь и войну, про смерть и покой…
Было в нем и кое-что особенное: во сне у меня появилась возможность изменить мир за десять лет до двойного убийства в Сараево. Мне приснился век, в котором было гораздо меньше безумия.
Поскольку хозяина я утром не встретил, то спустился к морю проветриться и привести в порядок мысли. Мне нравятся наши метафоры. Как можно привести в порядок мысли? Только с помощью новых мыслей. Мысли… Они удерживают одну информацию и отметают прочь другую.
И все-таки что же имеется в виду под наведением порядка в мыслях? Наверное, вот это: прекратить рассуждать и попытаться «почувствовать». Из чего следует очевидное: то, что мы «чувствуем», ценнее любого размышления… Чувства надежнее.
Усевшись на плоскую скалу, я смотрел на белопенные гребешки волн и вспоминал слова Ньютона о том, что самому себе он кажется ребенком, который ищет на берегу самые гладкие камушки и самые красивые ракушки, в то время как великий океан истины расстилается перед ним еще непознанный. Еще я вспомнил Мэтью Арнольда, который на берегу Дуврского пролива, в свою очередь, вспоминал Софокла на берегу Эгейского моря, и утверждал, что в шуме прибоя античный трагик различал приливы и отливы человеческих страданий.
Всплыл в памяти вполне реальный берег. Анцио, 1944 год. Как хрустнул песок под моим грубым армейским ботинком: мы, поднимая тучи брызг, спрыгивали с десантной баржи, зная, что в любой момент нами могут поживиться немецкие пули.
Океан тогда был для меня не загадочной и могущественной стихией, а ледяной водой, из которой мне предстояло выбраться на берег, зарыться как можно глубже в песок и начать убивать. Пока мы брели к берегу, винтовку приходилось держать над головой, чтобы не замочить, потому что вода была по грудь. Никакого благоговения перед величием и красой Тирренского моря я не испытывал.
Любая проблема кажется неразрешимой только тому, у кого она возникла. Со стороны она часто выглядит смехотворно ничтожной. Промелькнула мысль, что и сам я попал в ловушку. Как те мои несчастные пациенты, для которых прошло время легких решений. Невозможно двигаться по жизни дальше (неважно, сколько мне ее еще осталось). Невозможно, пока я не уясню, что было там, во мраке прошлого. И тут требовалась тяжкая «кропотливая работа», то, что я начинающим психиатром настоятельно рекомендовал своим пациентам. Но я куда охотнее прибегал к давно известным трюкам: делал вид, что все нормально, старательно отвлекался на сиюминутные удовольствия, ловко менял направление мысли. Вот и Ньютона зачем-то вспомнил, а потом по инерции и Мэтью Арнольд выскочил.
С трудом заставив себя встать, я двинулся в сторону дома. Когда поднимался по ступенькам лесенки, снизу донеслись гулкие всплески. Я остановился и, сойдя с лестницы, свернул к краю обрывистого холма. В calanque кто-то плавал, и я почти сразу узнал гладкую изящную головку. Спустился, но встал так, чтобы меня не было видно. В конце концов Селин вышла из воды, нагая, как и в прошлый раз, и вскарабкалась на скалу. Инструмента для ловли ежей при ней не было, но полотенце она захватила. Расстелила его рядом со сброшенным платьем и легла. На спину. Волосы распустила веером, чтобы быстрее высохли, руки прижала к телу. Внизу живота было родимое пятно. На этот раз она мне показалась более сухощавой. Заметно было, что Селин не совсем разнежилась, словно подозревала или знала: за ней подсматривают.
Через минуту я пошел назад, к ступенькам, и вскоре очутился в саду Перейры.
Ланч был накрыт на открытой террасе, затененной ветвями сливы. Полетта принесла salade nigoise[16]с листочками полевого салата и острым чесночным соусом.
– С большим удовольствием прочел ваши заметки, – доложил я. – Насколько я понял, ваша цель – добиться того, чего должен, по идее, добиваться хороший психоаналитик. Но при этом вы используете физиологические особенности самого мозга, он должен сам произвести изменения, взрастить их. Тот же психоанализ, только на биологическом уровне.