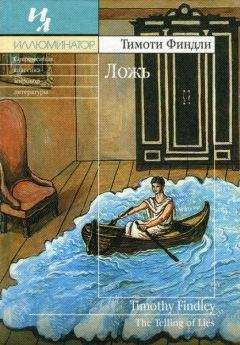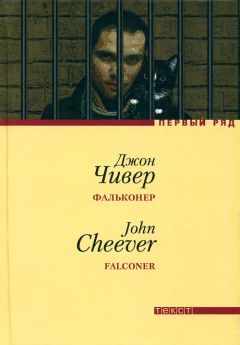— Это был удар? — Арабелла подергала нитку за узелок — Он умер от удара?
— Да, Арабелла. От удара.
— Значит, полиция это подтвердила?
На секунду ее взгляд скользнул в сторону Лоренса.
Я не знала, как ответить, потому что полиция не подтвердила, но и не отрицала названную Лоренсом причину смерти. Признала только, что на пляже обнаружено мертвое тело.
И в конце концов я солгала:
— Да, полиция подтвердила.
Арабелла определила желтый узелок в надлежащую точку рукоделья и обрезала нитку.
Тут я услышала у себя за спиной какую-то тихую возню. Арабелла подняла голову, устремила взгляд куда-то мимо кофра, висевшего у меня на плече, и кашлянула.
Я обернулась.
У стойки портье — фактически спиной едва ли не ко всем в холле — стоял доктор Чилкотт, по-прежнему в своем габардиновом пальто. Он как раз прощался с Куинном и Эллен Уэллс, до меня отчетливо долетели слова:
— Спасибо за любезное содействие.
И у меня тотчас же возник вопрос: с какой такой стати доктор Чилкотт до сих пор здесь? Поскольку он был в вечернем костюме, я предполагала, что он направляется на прием. Он и сказал что-то в этом роде: Проезжал мимо и заметил на пляже машины.
Невольно я взглянула на Лоренса.
На лице у него опять читалась тревога.
— До чего же церемонный господинчик, — заметила Арабелла.
— Верно, — сказала я. — Он был на пляже.
— В таком виде? — улыбнулась она.
— Именно в таком.
Когда я снова посмотрела в ту сторону, доктор Чилкотт уже ушел, а немного погодя от подъезда отъехал автомобиль.
Арабелла вооружилась новой ниткой. Зеленой.
— Его лицо, — проговорила она, поднеся к глазам иголку, — откуда-то мне знакомо, причем не смутно. Не так ли, Ванесса? Он друг Колдера?
— Не знаю, — сказала я и назвала его имя.
— Чилкотт? Ну конечно.
Прозвучало это вполне решительно и удовлетворенно, как будто названное имя сообщило ей именно то, что она ожидала услышать.
— Никогда раньше его не видела, — добавила я.
— Нет, видела, — возразила Арабелла с этой своей отвратительной внушительностью.
Она обрезала зеленую нитку и собралась продолжить работу. Я ждала объяснений.
Но вместо этого она посмотрела на Лоренса.
— Лучше бы ты отправила его к жене, — заметила она, обращаясь ко мне, словно я каким-то образом не давала ему уйти. — Может быть, она всех вас накормит ужином.
На этом аудиенция закончилась. Арабелла устремила взгляд на свое рукоделье, подняла его и снизу проколола иголкой.
В тот миг ужинать мне совершенно не хотелось.
Но Лоренс настаивал. Петра сделает нам омлет. Они жили в «Росситере» — одном из трех арендуемых «АС» коттеджей, которые были названы в честь своих учредителей. (Два других — это «Барри» и «Дентон».)
Пока я разговаривала с Арабеллой, Лили и Мег успели уйти. У Лили ужасно разболелась голова. А Мег, по-видимому, отчаянно спешила к Майклу. Она оставила его на попечении Бэби Фрейзьер, которая располагала определенным опытом, так как ухаживала за покойным мужем, когда он оправлялся от тяжелейшего удара.
В итоге я пошла с Лоренсом в «Росситер» и съела омлет с сыром, который Петра сварганила и подала с любезностью фермера, задающего корм свиньям. Вот чертовка! Разозлилась из-за того, что мы помешали ей читать книгу. Еще бы куда ни шло, будь это поваренная книга, но нет, она читала очередной роман из своих неисчерпаемых запасов. Классику.
…
58. Моего отца назначили в Сурабаю. Сначала он поехал туда один, в апреле 1940-го. Мама присоединилась к нему осенью того же года, устроив меня в частную школу мисс Хейлс. Мне было разрешено приехать к ним только следующей осенью, в октябре 1941-го.
Эти даты, записанные мною сейчас, окружены ореолом. Всякий, кто жил в то время, признает их важность. Задним числом всегда очень трудно оглядываться назад, вплоть до тех невинных времен, что предшествовали страшным событиям. Война в Европе, хотя и ужасная, была достаточно далеко и больше походила на кино, чем на повседневную реальность. Мы видели кадры кинохроники — жуткие, конечно, однако словно бы не вполне реальные. К примеру, когда Гитлер вошел в Париж, в июне 1940-го, — все это казалось сущим спектаклем, сценой из этакого зрелищного голливудского фильма. Он стоял на могиле Наполеона, и его присутствие там было настолько нелепо, что зрители смеялись. Чарли Чаплин наверняка сыграл бы эту сцену куда лучше. Вот почему, когда папа и мама отправились на Яву — на край света, дальше от Европы, кажется, и быть не могло, — мысль о том, что война доберется и туда, представлялась совершенно невообразимой.
Теперь, оглядываясь назад и памятуя о том, что знаю сама и знаем мы все, я поневоле удивляюсь, зачем мы туда поехали. Отец поехал, потому что работал в нефтяной отрасли. Он тогда был молод, довольно молод, и мечтал о приключениях и красотах дальних стран. И в первую очередь Восток казался подлинным чудом, сошедшим с книжных страниц. Мы все читали Моэма — даже я в школе зачитывалась Моэмом, — и перспектива ходить в белом и держать десяток китайских слуг очень нас привлекала. Если вы принадлежали к высшему обществу, то, за исключением гнусных подробностей будничных человеческих жизней, всё им описанное вполне укладывалось в рамки того, чего вы могли ожидать от путешествия в сей регион. Моэм описывал каюты на верхних палубах океанских лайнеров, просторные кают-компании, где вы сидели за капитанским столом, и огромные экзотические отели — все это было частью ваших естественных ожиданий и существовало на самом деле. Восток представал как место совершенно исключительное, а ужасы его прятались в глубине, за ставнями и ширмами, которые отсекали все, кроме запахов курительных палочек и благовоний из храмовых дворов.
Я наслаждалась этой роскошью два коротких месяца — потом ставни распахнулись, ширмы отшвырнули, и взгляду открылось отвратительное зрелище.
Японская война началась в понедельник, 7 декабря, началась, кажется, далеко-далеко. «Сюда они не придут, не смогут прийти», — твердили мы. Со всех сторон только и слышалось: они сюда не придут, не смогут.
А они пришли.
Мы собрались в холле отеля, с узлами и чемоданами; одни стояли, другие сидели прямо на вымощенном плиткой полу. Моего отца с нами не было. Он организовывал уничтожение нефтехранилищ далеко отсюда, за портом. В тот вечер воздух был пропитан запахом горящей нефти, и небо пылало заревом, которого я никогда не забуду, — желтые, оранжевые, синие языки огня, а над ними огромные тучи густого дыма, низко накрывшие доки.
Голландец-капитан — в маслянисто-черной форме, словно искупавшийся в сырой нефти, — вошел в холл, сопровождали его два молодых солдата. Когда капитан снял фуражку, белесые волосы и загорелое лицо составили до смешного нелепый контраст, а слова его были не менее маслянисто-елейными, чем внешность. Он долго извинялся за «неудобства, связанные с разрушением города», и очень-очень сожалел, что нам придется сдаться японцам, как будто и это не более чем простое неудобство — досадный дискомфорт. Скользнув взглядом по нашему багажу, он сказал: «Боюсь, так много вам унести не под силу. Но если вы оставите лишнее в своих номерах, я обещаю, что власти позаботятся о вашем имуществе».
Само собой, этих вещей мы никогда больше не увидели. С миром излишеств для нас было покончено.
«А что в таком случае каждый может взять с собой, капитан?» — спросила моя мама.
«Один маленький чемодан, мадам».
«И что с нами будет?» — опять спросила мама.
Капитан надел фуражку, аккуратно спрятав под ней свою светлую шевелюру, потом сказал: «Вас интернируют. До нашего возвращения». Засим он удалился.
До нашего возвращения. Конечно, мы никогда больше не видели этого молодого голландского капитана. Как и вообще никого из его коллег. До августа 1945-го.
Всю ночь мы провели в ожидании — и электричество наши бдения не освещало. Да и нужды в нем не было. Пожар — мысленно я называла его отцовским — вполне справлялся с этой задачей. Кто-то распахнул настежь все ставни, и наша белая одежда стала желтой, розовой, мандариновой — киношные костюмы фантастических расцветок в отблесках горящего города.
Мужчин в этом холле не было, только женщины.
Детей с няньками-китаянками изолировали в столовой.
Отчетливо помню, хотя имя ее забылось — а может, я вообще его не знала, — что, когда мы услышали во дворе японцев, одна женщина достала из сумочки флакон одеколона. Открыла его и, смочив кончики пальцев, мазнула себе за ушами и по шее. Она улыбнулась мне, эта женщина, закрыла флакон и убрала в сумочку.
«Порядок?» — спросила она.
Вот так оно и началось — наше заключение. В гостиничном холле, полном женщин, пахнущем гарью и одеколоном.