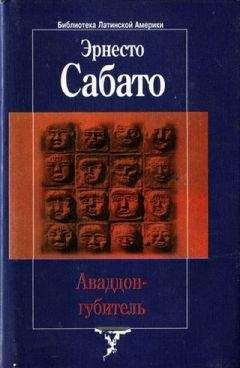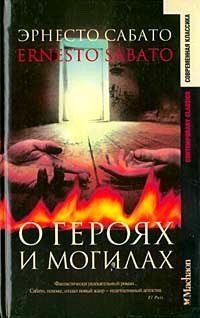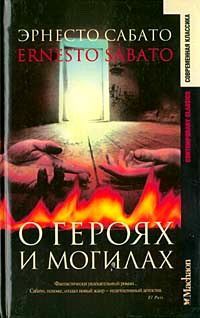— Он был французский авантюрист, даже кухарки о нем знают. Просто кое-кто читает только книги по гастроэнтерологии. А что потом приключилось с Тавернье! Ужас!
— Что же?
— Его сожрала стая голодных собак в русских степях.
Доктор Аррамбиде так и застыл с куском сандвича в руке и открытым ртом — как на моментальных снимках в еженедельных журналах. Нет, это уж чересчур — голодные собаки, русские степи, индийские идолы…
Марсело, умоляюще сказала СильвинаДа, да, конечно.
Он вошел в гостиную, споткнувшись. Вечно он на что-будь натыкался, такой неловкий. Поцеловал мать, потом тихо сел в углу, подальше от шумного сборища, чуждый всему, глядя в пол. Немного спустя, стараясь не привлекать внимания, ушел.
Доктору Каррансе хотелось пойти вслед за ним, догнать сына. Но не решился, только молча смотрел на него, чувствуя ком в горле. И ему вспомнилось время, когда он вставал спозаранок, чтобы позаниматься с Марсело к экзаменам для поступления в университет.
Потом доктор Карранса тоже ушел и заперся в своей спальне.
Просто по слабости, думал С.,заранее раздосадованный и угнетенный, чувствуя себя еще раз виноватым — сделает ли он то, что говорят, или не сделает. Ну ясно, скажет Беба, тебе нравится корчить из себя оригинала, не ходить в гости, создавать себе славу недоступного человека. Так что время от времени надо куда-то ходить. К тому же, жалко бедняжку Маруху.
Он смотрел на гостей, созванных Марухой по наивности: уж это ее идеальное и постоянное благодушие; она приглашает людей, которые один другого терпеть не могут.
— Ты просто его не знаешь, — убеждала она.
Бесполезно ей объяснять, что этого типа он терпеть не может именно потому, что его знает. Она, однако, была уверена, что войны бывают от непонимания, и бесполезно ей толковать о непревзойденной жестокости гражданских войн, о распрях свекрови с невесткой, о вражде братьев Карамазовых. И С. попивал виски в углу гостиной, пока доктор Аррамбиде смотрел на сборище с неизменный удивлением на лице (широко раскрытые глаза, приподнятые брови, лоб в крупных поперечных складках), словно в этот момент ему сообщили о присуждении Нобелевской премии какому-то ничтожеству. И вдруг, сам не заметив как, С. оказался в центре спора, потому что кто-то сказал, что жизнь замечательная штука, а Маргот, с вечно удрученным лицом и скорбно сведенными бровями, напомнила о раке и нападениях грабителей, о наркотиках, лейкемии и о смерти Пароди.
— Но наука движется вперед, — возразил Аррамбиде. — Раньше сотни тысяч людей погибали от эпидемий желтой лихорадки.
С. дожидался удобного момента, чтобы уйти, не обижая Маруху, но тут никак не мог себя сдержать и совершил то, что поклялся никогда не делать: вступил в спор с Аррамбиде. Конечно, сказал он, все это в прошлом, и теперь вместо холеры мы имеем азиатский грипп, рак и инфаркты. На что доктор Аррамбиде, иронически усмехаясь, готовился возразить, как вдруг кто-то начал перечислять мучения и пытки в концентрационных лагерях. Стали приводить примеры.
Одна гостья вспомнила, что в «Туннеле» говорится о случае с пианистом, которого заставили съесть живую крысу.
— Какая мерзость! — воскликнула другая.
— Может, и мерзость, но это единственное стоящее место в романе, — сказала упомянувшая о нем, предполагая, что автор где-то далеко. Или что он рядом.
Тогда-то в спор вмешался тот человек. С. казалось, что его представили как профессора чего-то на философском факультете.
— Читали вы статью Виктора Голланца[66] в «Сур»?[67]
— Не говорите мне о Виктории, — сказала особа, похвалившая единственное удачное место романа.
— А я говорю не о Виктории, — возразил профессор. — Я говорю о статье Виктора Голланца.
— Ну и что там, в этой статье?
— Он рассказывает, что происходило в Корее, когда применили бомбы с напалмом.
— Бомбы с чем?
— С напалмом.
— Бомбы с напалмом, — уточнил доктор Аррамбиде, — применяли не только в Корее. Их применяют везде.
— Пусть так, ну и что с того? — спросила особа, упомянувшая о крысе. Тон ее голоса был отнюдь не ободряющим, она явно не ожидала чего-либо интересного от статьи, не имеющей отношения к Виктории.
— Он рассказывает, что они видели странное зрелище — человек стоял, раздвинув ноги, слегка наклонясь вперед и раскинув руки в стороны, чтобы не прикасаться ими к телу. Вроде классической позы шведской гимнастки. Глаз нет. Тело едва прикрыто обгоревшими лохмотьями. Обнаженные места, а их было много, чернели от толстого слоя коросты, испещренной желтыми пятнами. То был гной.
— Какой ужас! Какая гадость! — воскликнула особа, упомянувшая крысу.
— А почему он так стоял, раскинув руки и не двигаясь? — спросила сеньора, не питавшая симпатии к Виктории Окампо.
— Потому что он не мог дотронуться до своего тела. От малейшего прикосновения могло лопнуть.
— Что могло лопнуть? — спросила недоверчивая дам!
— Кожа. Не понимаете? Образуется жесткая, но очень непрочная корка. Жертва не может ни лечь, ни сесть. Приходится все время стоять, раскинув руки.
— Чудовищно! — комментировала сеньора, все время ужасавшаяся.
Но ненавистница Виктории Окампо все хотела уточнить:
— Ни лечь, ни сесть? А можно узнать, что они делают, когда устают?
— Голубушка, — ответил профессор, — мне кажется, в этом случае усталость не самое худшее. — И продолжил: — Бомба начинена сгущенной нефтью. При взрыве нефть так сильно прилипает к телу, к коже, что человек и нефть горят как единый факел. Но слушайте, Голланц приводит другой случай: как-то ночью он увидел двух огромных безобразных ящериц, они медленно ползли, издавая рычание и стоны, а за ними целая череда таких же ящериц. На несколько секунд Голланца парализовал страх и отвращение. Откуда могли взяться эти мерзкие рептилии? Когда немного рассвело, загадка разъяснилась: то были люди, обожженные огнем и лишившиеся кожи, любой твердый предмет, на который они натыкались, причинял им страшную боль. Еще через несколько мгновений он увидел, что по дороге вдоль реки движется вереница существ, похожих на жареных индеек. Кто-то едва слышным, хриплым голосом просил воды. Они тоже были обожженные. С костей рук, как вывернутые перчатки, свисала, держась на кончиках пальцев, облезшая кожа. В полумраке двора он еще разглядел множество детей в таком же состоянии.
Послышались возгласы ужаса. Несколько женщин отошли в сторону, явно недовольные таким проявлением дурного вкуса, а профессор, казалось, был даже удовлетворен произведенным впечатлением.
Его удовлетворение было не очень заметным, но несомненным. С. внимательно его рассматривал — чем-то он был неприятен, этот профессор. Шепотом С. спросил у кого-то по соседству фамилию этого господина.
— Кажется, это инженер Гатти, или Пратти, или что-то в этом роде.
— Неужели? Разве это не профессор философского факультета?
— Нет, нет, полагаю, он инженер, итальянец.
Разговор вернулся к теме немецких концлагерей.
— Тут следует различать истину и то, что является пропагандой союзников, — заметил Л., известный своими националистическими убеждениями.
— Лучше бы им честно признать, — ответствовала особа, упомянувшая крысу. — По крайней мере, тогда они были бы последовательны в своем учении.
— То, о чем рассказывал этот сеньор, — возразил Л., кивком головы указывая на инженера, или профессора, — происходило не в немецких концлагерях, эти ужасы причинили демократические североамериканские бомбы. А что вы скажете, сеньора, о пытках, которые применяли французские парашютисты в Алжире?
Разговор становился беспорядочным и возбужденным.
— Да, варварство, — сказал наконец кто-то. — Варварство существовало всегда, сколько существует человечество. Вспомните Мухаммеда II, Баязида, ассирийцев, римлян. Мухаммед II приказывал распиливать пленников пополам. В длину. А тысячи распятых на Аппиевой дороге после разгрома восстания Спартака? А пирамиды из голов, которые сооружали ассирийцы? А целые стены, обитые кожей, заживо содранной с узников?
Стали перечислять пытки. Например, классическая китайская пытка: голого человека сажают на железный котел, в котле огромная голодная крыса, потом разжигают под котлом огонь — крыса, спасаясь, прогрызает себе путь через тело жертвы.
Опять послышались возгласы ужаса, и некоторые стали говорить, что довольно, все это очень неприятно, однако никто не двинулся с места, — видимо, ждали новых примеров. Инженер, или профессор, перечислил самые известные пытки — гвозди, вбиваемые под ногти, сажание на кол, дыбу. Обращаясь к доктору Аррамбиде, приверженцу науки и прогресса, С. присовокупил электрическую пикану[68], столь популярную в аргентинских полицейских комиссариатах. Разумеется, не говоря о громкоговорителях, благодаря которым можно устраивать танцы на улицах Большого Буэнос-Айреса и осуществлять единение умов.