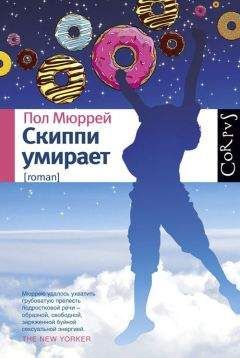— Я просто пересказываю то, что слышал.
— А я слышал, что он однажды так сильно стукнул кого-то, что тот умер.
— Да они теперь не имеют права никого бить, — вставляет Саймон Муни. — Мой папа — адвокат, и он говорит, что по закону учителя не имеют права…
— Ш-ш! Молчи! Он идет!
Мгновенно все разговоры стихают, и ученики покорно поднимаются с мест. В класс входит священник и направляется к кафедре. В полной тишине его черные глаза прочесывают класс, и хотя мальчишки сидят неподвижно, они как бы внутренне жмутся друг к дружке, словно по их рядам пронесся ледяной ветер.
— Asseyez-vous[8].
Отец Грин: предыдущие поколения втайне утешались тем, что на французский его имя точно переводится как Pére Vert[9]. Расскажи о нем своему папаше — и он наверняка припомнит его и, скорее всего, посмеется над тем, какой ужас он всем внушал: так, похоже, устроена память всех папаш, как будто все то, что они чувствовали в детстве, было не по-настоящему настоящим! Теперь же — то ли это очередной пример общего оглупления, то ли дело в том, что с годами перепады настроения у священника стали более резкими, — лингвистическим остроумием пожертвовали в пользу более прямолинейного прозвища Куджо[10], потому что именно на это похожи его уроки французского — как будто их заперли в тесном помещении с бешеным зверем. Худой как щепка, на голову выше самого высокого из учеников, в лучшие дни священник страшен, как конец света; само его присутствие — это как тлеющее пламя или непрестанный хруст костяшек пальцев.
Впрочем, на бумаге отец Грин едва ли не святой. Он не только курирует многочисленные кампании в поддержку Африки (Сибрукский телемарафон с участием Софи Бьенвеню, занявшей 2-е место в конкурсе “Мисс Ирландия”, брошки “Счастливый трилистник”, которые мальчишки продают в День святого Патрика, и так далее), он регулярно наносит визиты в бедные кварталы Дублина и доставляет неимущим одежду и еду. Рано или поздно большинство учеников оказываются в одной из его групп “добровольцев”, в громыхающем автомобиле-универсале, который едет к пустырям, замусоренным битым стеклом и собачьим дерьмом, и везет черные пакеты и коробки жителям крошечных домишек с окнами, заколоченными досками; и всякий раз местные подростки, их сверстники, собираются в кучки и выходят к машине над ними поиздеваться, а священник бросает испепеляющие взгляды и на учеников, и на хулиганов: в своем черном облачении он как будто нарисован одним росчерком пера — властная, не ведающая прощения косая черта, перечеркивающая испещренную ошибками тетрадь — людской мир. Невольно задумываешься: а рады ли сами “бедные” видеть его здесь — стучащегося в двери с фальшивой улыбкой и оравой дрожащих юнцов? Что ж, этим беднякам следовало бы возблагодарить судьбу за то, что им не приходится четыре раза в неделю сидеть с ним на уроках французского и ждать очередного взрыва.
Ни для кого не секрет, что отец Грин ненавидит преподавать, и в особенности он ненавидит преподавать французский язык. Часто уроки затягиваются из-за его тирад (обычно адресованных Гаспару Делакруа, злосчастному ученику, попавшему сюда по обмену), которые посвящены упадку, постигшему Францию. Похоже, он считает, что и сам язык подвергается нравственной порче, и большая часть урока посвящается грамматике, которая частично избавлена от этой грубости; но все равно — эти томные элизии, эти мутные назальные звуки бесят его. А есть ли что-нибудь, что его не бесит? Его бесят сами частички воздуха. А школьники — с их дорогими стрижками и блестящим будущим — бесят его еще больше. Поэтому лучше всего сидеть тихо и стараться ничем не выводить его из себя.
Однако сегодня — вопреки россказням В. Бейли и М. Гогана — священник, по-видимому, пребывает в нетипично веселом настроении, он вполне благодушен и даже игрив. Он собирает тетрадки и проглядывает вчерашние домашние задания, роняя замечания о том, как это все скучно, и извиняясь за то, что заставляет таких умных молодых людей заниматься такой неинтересной работой — над чем они покорно хихикают, хотя, возможно, с его стороны это всего лишь сарказм; он подтрунивает над Сильвеном, антигероем французского учебника, который в сегодняшнем упражнении обсуждает со своими французскими друзьями-тупицами все дурацкие места, где они побывали в течение дня, употребляя прошедшее время глагола aller, — а потом, продолжая проверку тетрадей, просит их сочинить письмо вымышленному другу по переписке.
Постепенно из класса улетучивается гнетущая атмосфера. Вдалеке слышно птичье пение, а с урока музыки отца Лафтона доносится робкая восходящая гамма. За спиной Скиппи Марио очень тихо начинает рассказывать Кевину “Чего” Вонгу, как прошлым летом занимался любовью с сексапильной сестренкой своего французского друга по переписке. Входя во вкус рассказа, он начинает бессознательно пинать спинку стула, на котором сидит Скиппи. Костлявые пальцы священника пролистывают тонкие страницы. Скиппи, которого по-прежнему сильно мутит, поворачивается и многозначительно смотрит на Марио, но Марио, ничего не замечая, продолжает подробно рассказывать о сексуальных предпочтениях сестрицы французского друга по переписке: теперь он утверждает, будто она знаменитая актриса.
Бум, бум, бум — пинает его нога стул Скиппи. Скиппи, побагровев, хватает себя за волосы.
— Что-что? Где она снималась? — спрашивает Кевин “Чего” Вонг.
— Во французских фильмах, — говорит Марио. — Она очень знаменита — там, во Франции.
— Не стучи по моему стулу! — шипит Скиппи.
Не отрывая головы от тетради и делая в ней какие-то пометки, отец Грин напевает себе под нос: “Я ссссутенер, как забавно”.
Все мгновенно замирают, бросив прежние занятия. Он действительно произнес то, что всем послышалось? Отец Грин, словно заметив, что общее внимание вдруг переключилось, поднимает голову.
— Пожалуйста, встаньте, мистер Джастер, — просит он любезным тоном.
Скиппи неуверенно поднимается с места.
— О чем вы там говорили, мистер Джастер?
— Я ни о чем не говорил, — запинаясь, отвечает Скиппи.
— Я прекрасно слышал, как кто-то разговаривал. Кто тогда разговаривал?
— М-м-м…
— Понятно, никто не разговаривал. Верно?
Скиппи не отвечает.
— Ложь, — начинает загибать пальцы на руке отец Грин. — Разговоры на уроке. Скабрезности. Вы знаете, что значит слово “скабрезность”, мистер Джастер?
Скиппи — а он быстро бледнеет, становясь похожим на призрак лягушки, — нерешительно поднимает плечо.
— Мы живем в век скабрезности, непристойности, — провозглашает отец Грин, поднимаясь с кафедры и обращаясь к классу, как будто переходя к новому разделу французской грамматики. — Это осквернение языка. Осквернение божественного храма — нашего тела. Все эти похотливые картинки. Мы погружаемся во все это, приучаемся любить это, как свинье нравится валяться в испражнениях. Разве не так, мистер Джастер?
У Скиппи на лице написано, что ему тошно. Он хватается одной рукой за парту, словно она сейчас единственная его опора.
— “Я ссссутенер, как забавно”, — повторяет священник, теперь уже громче, с ужасным американским протяжным произношением. Никто не смеется. — Сегодня, когда я сидел за рулем, — поясняет он якобы доверительно-разговорным тоном, — я случайно включил радио, и вот что я услышал. — Он делает паузу, а потом морщит лицо и передразнивает радио: “О-у, детка, я не люблю сидеть тихо, свою штуковину накачиваю лихо, так лихо, что, наверно, я похож на психа…”
У всех головы тяжело падают на руки: все уже понимают, к чему он клонит и что сейчас будет.
— Признаюсь, я был несколько сбит с толку, — отец Грин чешет голову, карикатурно изображая озадаченность, — потому что не понял, что имел в виду тот парень, и я решил, что спрошу кого-нибудь из вас. Что за штуковину он накачивает, мистер Джастер?
Скиппи только ловит ртом воздух.
— Накачиваю лихо, — напевает священник себе под нос. — Нака-на-ка-накачиваю лихо… Может быть, это бензин? Может, паренек работает на бензозаправочной станции? Или это про велосипед? Как вы думаете, мистер Джастер, о чем он поет? О чем эта песня — о велосипеде?
Скиппи весь дрожит от страха, ноздри у него раздуваются, он делает глубокие вдохи…
— О ЧЕМ ОН ПОЕТ — О СВОЕМ ВЕЛОСИПЕДЕ?
Прокашлявшись, Скиппи отвечает тонким голоском:
— Может быть…
Рука священника, как удар грома, обрушивается на парту “Джикерса” Прендергаста; все так и подскакивают от неожиданности.
— Лгун! — ревет отец Грин.
Теперь с него слетели последние остатки прежней веселости и благодушия, и ученики понимают, что и раньше все это было лишь притворство, или, скорее, более мрачное проявление его обычной ярости, которая только ждала неизбежного момента, когда можно выплеснуться.