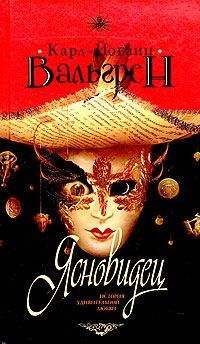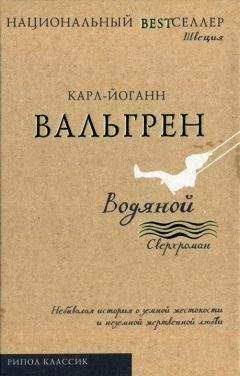И Шустер точно знал, что есть какая-то связь между мальчиком и дикарями, среди которых он жил в молодости; именно поэтому в этот жаркий августовский вечер, пропустив все молитвенные часы и прислушиваясь к голосу призрака, звучавшему в его душе, он пытался установить, что это за связь.
Итак, сначала мальчик. Первое происшествие, сразу воспринятое народом, как чудо, случилось с пастухом по имени Дитмар Фромм — он утверждал, что ему достаточно было взглянуть на мальчика, чтобы сразу сообразить, где находится его сбежавшая овца, — в овраге, куда она забрела, поскольку он пренебрег своим пастушеским долгом и зашел в гости к знакомой девушке. «Даже и не сомневайтесь, — сказал он. — Я глазел на этого урода и думал, как бы мне найти свою овечку, и тут-то мне все и открылось!»
Чуть позже крестьянин с помощью мальчика нашел серебряное блюдо, пропавшее тридцать лет назад. Он только подошел к ребенку, и тут же его посетило видение. Он сам закопал блюдо в яблоневом саду во время одной из войн, в разгул грабежей, а потом забыл место. Он клялся, что едва взглянул на мальчика, как перед его внутренним взором открылось точное место клада, охраняемого Святой Девой Марией с золотым скипетром в руках и нимбом из механических бабочек, сверкавшим так ярко, что он на какое-то мгновение лишился зрения.
Одна женщина, по имени Константина Пауль, известная, правда, своей истеричностью, утверждала, что мальчик — это своего рода зеркало, и в этом зеркале каждый видит свое неизвестное ему самому «Я». Она сама, как она говорила, излечилась от неведомой болезни сердца только благодаря тому, что сидела у стен монастыря и слушала, как мальчик играет на органе. «Он помог мне заглянуть в мою душу, — рассказывала она сельскому священнику, — да благословит его Бог!»
Были и другие. Они утверждали, что мальчик — месмерист и владеет искусством читать чужие мысли; он, не прикасаясь к ним, вылечил их от самых разных болезней: зубной боли, шума в ушах, скверного запаха изо рта, запоров, хромоты, антракоза и даже слепоты, хотя в последнем Шустер не без оснований сомневался.
Больше всего беспокоили его новопостриженные. После того как появился мальчик, семеро, ни больше ни меньше, покинули монастырь. Один громогласно заявил, что Бог — это выдумка высших классов, чтобы удобнее было притеснять массы, и что жертвенная смерть Христа — чистейший миф, поскольку распяли на кресте неизвестного греческого грабителя, а сын плотника из Галилеи, на вере в которого была построена вся их ложная религия, сбежал с матерью в Сирию, что подтверждается апостолом Павлом — тогда еще его звали Саул — встретившим Иисуса на пути в Дамаск.
Что настораживало Шустера, так это то, что монах, перед тем как сделать свое заявление, провел с мальчиком не менее недели, обучая того всяким вспомогательным работам в монастыре, — понятно, что ребенок все делал ногами.
Другой на исповеди признал, что он не в состоянии более следовать обету воздержания, а еще двое просто-напросто исчезли, не оставив никакого объяснения.
Ходили слухи, что ребенок одержим бесом, и несколько уважаемых старых монахов направили к Киппенбергу доверенного человека, прося того, следуя правилам монастыря, отослать назад в дом призрения «дьяволово отродье», как они называли мальчика. Другие вдруг принимались ни с того ни с сего плакать, кто-то мог подняться среди ночи и бродить по коридорам монастыря, громко всхлипывая и прося Господа отпустить им неведомые грехи…
Итак, Шустер продолжал лихорадочно искать связь событий в монастыре с тем, чему он был свидетелем в годы молодости, пока вдруг, с чувством внезапного озарения, никак не выражаемого словами, он не вспомнил сумеречный час сорок пять лет тому назад, когда он стоял лицом к лицу с неким Тихуаном, или Хуаном, как его называли испанцы, знахарем в одной из деревень на севере, слепым от рождения, в надежде излечиться от дизентерии, время от времени обременявшей чувствительный европейский кишечник Шустера.
Опыт научил его не отбрасывать индейское врачебное искусство, выросшее из требований джунглей: лихорадочной реальности змеиных укусов, из обжигающих шипов ядовитых растений, кровожадности вампиров и неутолимого голода паразитов, поэтому он отправился к знахарю — тот, по слухам, умел лечить все болезни, кроме тех, что испанцы сами привезли на этот континент.
Шустер нашел колдуна около хижины, стоявшей на отшибе и отгороженной от деревни зарослями агавы. Несмотря на слепоту, Тихуан каким-то образом угадал его присутствие, с поразительной уверенностью взял за руку и увлек за собой в хижину.
Лежа на полу, Шустер старался не замечать полдюжины ссохшихся голов, когда-то отрубленных у врагов племени, уставившихся на него с потолка с оскорбленными минами. В полутьме казалось, что глаза шамана светятся сами по себе. Он пробормотал какое-то заклинание — Шустер уловил только упоминание имени Богоматери, а также обращение к духам джунглей — они, как считали индейцы, осаждали Шустера легионами. Шустер закрыл глаза с чувством, что его гипнотизируют.
Много раз он пытался найти слова, чтобы описать свои ощущения в этот день, это невероятное путешествие в недра своего организма — и не мог. Как будто бы он превратился в ветерок или сквозняк — и ветерок этот каким-то гастроскопическим чудом устремился ему в рот, эту жаркую влажную пещеру, где, словно мертвый кит, лежал синий и распухший язык, и дальше, в морщинистую шахту пищевода, пока не очутился над колышущимся, плещущим морем.
И это было правдой! Он проник в свой собственный желудок, увидел комки батата и кукурузной лепешки и только что съеденные полупереваренные речные мидии, плавающие на поверхности, словно льдины, и, к величайшему своему удивлению, он нырнул в это зловонное болото, где почти ничего не было видно, настолько мутной была эта жижа, через бурлящий колодец привратника, где, как он сообразил, начинался кишечник. В этом бесконечном туннеле, в кровоточащих катакомбах, в змеиной коже, где то и дело на него обрушивались лавины телесных отбросов, где полчища паразитов впивались в стенки его кишечника, он увидел воочию, как Тихуан волшебной своей властью обнаруживает их и уничтожает. И так, казалось ему, миля за милей, час за часом продолжалось это путешествие по темному, зловонному кровавому туннелю, пока он не стал сужаться, сжиматься в конвульсиях, сейсмических волнах его собственного тела и он не оказался выброшенным в полумрак хижины Тихуана.
Потрясенный до глубины души, Шустер приподнялся на колени. Он протер глаза и снова зажмурился — ему казалось, что он очнулся от галлюцинаций. Но как бы там ни было, пережитое только укрепило его подозрения, что колдун намеренно пытался свести его с ума, возложить на него ответственность за преступления колониальных, властей, поскольку в какой-то точке сознания он ясно слышал его голос: Духи джунглей ушли из Шустера, они ненавидят белого бога, но я уговорил их… все, что я хочу за свои услуги — кружку спирта…
В совершенно расстроенных чувствах, но с ясным ощущением облегчения, что диарея его, наконец, вылечена, Шустер встал и вышел из хижины, читая молитву святому Франциску Ксавье, покровителю миссионеров.
Тут-то и была точка соприкосновения, внезапно понял он, оглядывая этот силезский монастырь и вечереющее небо над ним, — это как раз то, что роднило индейского колдуна и мальчика-уродца. Может быть, Константина Пауль была и права в припадке откровения на исповеди сельскому священнику: мальчик, как и Тихуан, мог проникать в их души, обшаривать все их закоулки, и просто-напросто мысленно разговаривать с ними.
* * *
За годы, проведенные в доме призрения, Эркюль Барфусс чуть не лишился разума. Он даже не знал, сколько времени он там провел. Он почти уже и не помнил придворного судью фон Кизингена, лично приказавшего своему кучеру заковать его в цепи и вывезти из Кенигсберга.
За этим последовало безумное путешествие по заснеженным дорогам, они ехали целую неделю, все время ночью, ему не давали ни есть, ни пить, и в конце концов на рассвете выкинули, полумертвого от голода и жажды, на одной из сельских дорог Силезии. Он пришел в сознание только тогда, когда очутился в аду дома призрения.
Даже на склоне лет его посещали видения этого сумасшедшего дома, эти живые трупы, бродящие по комнатам, слюнявые, плачущие, выкрикивающие что-то, отгороженные от внешнего мира не столько стенами заведения, сколько темными лабиринтами их искалеченного сознания. Тут и там сновали призраки умерших, при жизни переживших такие ужасы, что потеряли способность к ориентации и не в состоянии были найти дорогу в царство небесное, которое они, без сомнения, заслужили.
Душевнобольные были самого разного рода: идиоты, больные падучей болезнью, истеричные женщины, тихие и буйно-помешанные, а также страдающие обмороками и мучительными приступами нервной лихорадки. Оборвать человеческую жизнь там было так же легко, как задуть пламя свечи. Не только женщины и мужчины всех возрастов жили и умирали за наглухо запертыми стенами заведения, но и дети, несчастные жертвы судьбы, никогда не слышавшие слова «милосердие». Некоторые из них родились в доме призрения — плоды коротких ночных свиданий двух погибших созданий на покрытом сеном полу. Некоторые были отпрысками надсмотрщиков, в то время как их матери были прикованы цепью к стене в женском отделении.