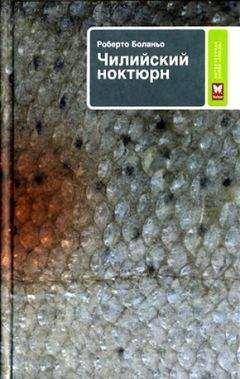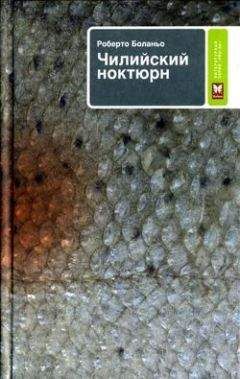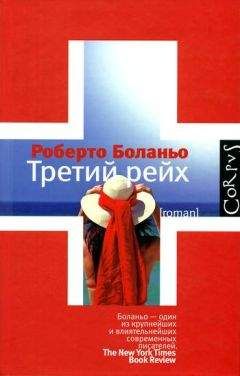И вот наконец, ровно в полночь, он влез на стул посреди гостиной и попросил тишины. По свидетельству Муньоса Кано, он сказал буквально следующее: настало время познакомиться с новым искусством. Это был прежний Видер: властный, уверенный, его глаза жили отдельно от тела, словно смотрели на нас с другой планеты. Он открыл дверь в свою комнату и стал по одному приглашать в нее гостей. По одному, господа, чилийское искусство не терпит толпы. Он сказал это (по отзывам Муньоса Кано) как-то насмешливо и, взглянув на своего отца, подмигнул ему сначала левым, а потом правым глазом. Будто ему опять было двенадцать и он подавал тайный знак. Довольный отец спокойно улыбался сыну.
Первой, разумеется, вошла Татьяна фон Бек Ираола – как единственная женщина, да еще наделенная капризным и импульсивным характером. Татьяна, пишет Муньос Кано, была внучкой, дочкой и сестрой военных, немного сумасбродная независимая женщина, всегда делавшая, что ей вздумается, встречавшаяся и выходившая в свет, с кем ей хотелось, имевшая по всякому поводу свое собственное, весьма экстравагантное, иногда противоречивое, но зачастую оригинальное мнение. Несколько лет спустя она вышла замуж за педиатра, они уехали жить в Ла-Серену и обзавелись шестью детьми. В ту ночь Татьяна, красивая и доверчивая девушка, меланхолически вспоминает Муньос Кано, но в его голосе звенит страх, зашла в комнату, ожидая увидеть в ней героические портреты или скучные фотографии чилийского неба.
Комната была освещена как обычно. Ни одной дополнительной лампы, никаких подсветок, способных выгодно оттенить фотографии. Комната не должна была походить на картинную галерею, она должна была оставаться именно обычной съемной комнатой, временной обителью молодого человека. Само собой, как заметил кто-то, в ней не было ни разноцветных огней, ни грохота барабанов, рвущихся из спрятанного под кроватью магнитофона. Обстановке надлежало быть обычной, умеренной, без крайностей.
А снаружи продолжался праздник. Молодые люди пили, как и положено молодым, причем молодым триумфаторам, а кроме того, они умели пить как чилийцы. Звучал заразительный смех, вспоминает Муньос Кано, чуждый любой угрозе, любой тревоге. В одной из комнат трое пели, обнявшись, под аккомпанемент принадлежавшей одному из них гитары. Подпирая стены, группками по два-три человека, молодые люди рассуждали о будущем или о любви. Все были рады присутствовать на вечеринке – на этом празднике летчика-поэта. Каждый был счастлив быть самим собой, а в придачу еще и другом Карлоса Видера. Правда, они не вполне сознавали сей факт, хотя все заметили разницу между собой и им. Очередь в коридоре таяла с каждой минутой, у одних закончилась выпивка, и они побежали за новой порцией; другие клялись собеседникам в вечной дружбе и преданности, которая служила им чем-то вроде защитной плащ-палатки. Время от времени они заходили в гостиную и возвращались оттуда с раскрасневшимися щеками и опять занимали очередь в таинственную комнату. Повсюду, особенно в коридоре, висел густой дым. Видер стоял в дверях. Два лейтенанта препирались и легонько толкали друг дружку в туалетной комнате в конце коридора. Отец Видера, один из немногих, сохранял серьезность и терпеливо ожидал своей очереди. Муньос Кано, по его собственному признанию, нервно сновал туда-сюда, полный мрачных предчувствий. Два репортера-сюрреалиста (или суперреалиста) беседовали с хозяином дома. Пробегая в очередной раз, Муньос Кано расслышал несколько слов: они говорили о путешествиях, о Средиземном море, Майами, теплых пляжах, рыбацких лодках, роскошных женщинах.
Менее чем через минуту Татьяна фон Бек вышла из комнаты – бледная, сама не своя. Все смотрели на нее. Она взглянула на Видера – казалось, хотела что-то ему сказать, но не находила слов – и бросилась к туалету. И не успела. Ее вырвало прямо в коридоре, после чего она, шатаясь, ушла вон из офиса, поддерживаемая офицером, галантно предложившим проводить ее до дома, несмотря на все протесты фон Бек, предпочитавшей остаться одной.
Вторым зашел капитан, преподававший Видеру в академии. Он так и не вышел. Стоя возле закрытой двери (капитан оставил дверь приоткрытой, но Видер плотно закрыл ее за ним), Видер улыбался все более удовлетворенной улыбкой. А в гостиной судачили о том, какая муха укусила Татьяну. «Да она пьяна», – промолвил незнакомый Муньосу Кано голос. Кто-то поставил диск с записью «Pink Floyd». Кто-то запротестовал, что в компании мужчин танцевать не принято, это смахивает на вечеринку геев. Ему возразили, заявив, что музыка «Pink Floyd» и не предназначена для танцев, ее надо слушать. Репортеры-сюрреалисты судачили между собой. Лейтенант предложил немедленно ехать к проституткам. Муньос Кано пишет, что ему казалось, будто его темной ночью в чистом поле застало ненастье, по крайней мере, голоса звучали именно так. Обстановка в коридоре была еще хуже. Все напряженно молчали, как в ожидании приема зубного врача.
«Но где это вы видели приемную дантиста, в которой гнилые зубы (sic[37]) ожидают стоя?» – спрашивал сам себя Муньос Кано.
Чары разрушил отец Видера. Он вежливо прошел вперед, обратившись по имени к офицерам, стоявшим в очереди перед ним, и вошел в комнату. Следом за ним зашел хозяин офиса. Он выскочил в ту же секунду, столкнувшись с Видером нос к носу. На мгновение показалось, что он ударит его, он схватил его за лацканы пиджака, потом бросил, развернулся к нему спиной и пошел в гостиную чего-нибудь выпить. Теперь уже все, включая Муньоса Кано, захотели войти в спальню. Там на кровати сидел капитан. Он курил и все перечитывал напечатанные на машинке записки, сорванные им со стены. Он казался спокойным, хотя сигаретный пепел сыпался ему на ногу. Отец Видера уставился на одну из нескольких сотен фотографий, украшавших стены и часть потолка спальни. Кадет, чье присутствие на вечеринке никто не мог объяснить, возможно, он был младшим братом кого-то из офицеров, вдруг разразился рыданиями и бранью, и пришлось выволакивать его силой. Репортеры-сюрреалисты выражали неудовольствие, но держали марку. Муньос Кано утверждает, что на некоторых фотографиях он узнал сестер Гармендия и других без вести пропавших. В основном женщин. Сюжет фотографий почти не менялся, следовательно, дело происходило в одном и том же месте. Женщины напоминали манекены, порой сломанные, разобранные на части, хотя Муньос Кано утверждает, что в тридцати процентах случаев они были живы в момент, когда их запечатлела камера. Большая часть фотографий была плохого качества (по мнению все того же Муньоса Кано), но это не мешало им производить на зрителей страшное впечатление. Все они были размещены в строго определенном, не случайном порядке: следуя единой линии, вписываясь в единый орнамент, идею, историю (хронологическую, духовную…), в единый план, фотографии на потолке – точная картина ада, пустынного ада (так показалось Муньосу Кано). Пришпиленные кнопками по четырем углам комнаты – картина богоявления. Безумного богоявления. В других фотографиях преобладают элегические нотки. («Но как в таких фотографиях может сквозить меланхолия и ностальгия?» – спрашивал себя Муньос Кано.) Символов мало, но они красноречивы. Фотография обложки книги Франсуа-Ксавье де Майстра (младшего брата Жозефа де Майстра) «Вечера в Санкт-Петербурге». Фотография фотографии белокурой девушки, будто тающей в воздухе. Фотография отрезанного пальца, брошенного на серый пористый цементный пол.
Публика обомлела, разговоры оборвались. Будто ток высокого напряжения пробежал по дому и лишил нас дара речи, пишет Муньос Кано в одном из наиболее выразительных отрывков своей книги. Мы смотрели друг на друга – и не узнавали сами себя, все изменились и все-таки оставались прежними, мы ненавидели свои лица, наши жесты были жестами сомнамбул или идиотов. Некоторые ушли не попрощавшись, а между теми, кто предпочел остаться, возникло странное витающее в воздухе ощущение братства. В качестве любопытной детали Муньос Кано добавил, что именно в этот деликатный момент зазвонил телефон. Хозяин дома не пошевелился, и трубку взял Муньос. Старческий голос спрашивал некого Лучо Альвареса. «Алло, алло! Можно попросить Лучо Альвареса?» Муньос Кано, не отвечая, протянул трубку хозяину дома. «Кто-нибудь знаком с Лучо Альваресом?» – спросил тот после долгой паузы. Такой долгой, что Муньос Кано решил, что звонивший, похоже, давно успел задать какие-то другие вопросы про Лучо Альвареса. Его имя никому не было знакомо. Некоторые засмеялись, это был неоправданно громкий нервный смех. «Такой здесь не живет», – ответил хозяин дома, еще раз послушав телефонную тишину, и повесил трубку. В комнате с фотографиями не оставалось никого, кроме Видера и капитана. По офису, как показалось Муньосу Кано, бродили человек восемь, в том числе отец Видера, судя по виду, не особенно взволнованный (он вел себя так, будто присутствовал – возможно, случайно – на встрече кадетов, по непонятной или скрытой от него причине не задавшейся). Хозяин дома, знакомый ему с отрочества, старался на него не смотреть. Остальные выжившие после праздника разговаривали или шептались между собой, но замолкали при его приближении. Неловкое молчание, которое отец Видера пытался разрушить, предлагая выпить вина или чего-нибудь горячего или закусить сандвичем, им же, в гордом одиночестве, приготовленным на кухне. «Не беспокойтесь, дон Хосе», – сказал, глядя в пол, один из офицеров. «Я и не беспокоюсь, Хавьерито», – откликнулся отец Видера. «Это не более чем незначительная канавка в карьере Карлоса», – сказал другой. Отец Видера посмотрел на него, словно не понимая, о чем идет речь. «Он был очень доброжелателен с нами, – вспоминает Муньос Кано, – а ведь он был на краю пропасти, но то ли не понимал этого, то ли не придавал значения или же притворялся с редкостным мастерством».