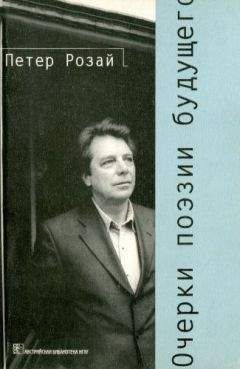Ты идешь по городу, где все закрыто. Ты теряешь записную книжку с номерами телефонов. Ты больше не помнишь своего имени. Тогда в тебе начинает шевелиться последняя, бледная гордость.
Ситуацию можно было бы представить, пожалуй, так: Тебе хотелось бы сообщить радостную весть, и ты предполагаешь, как это приблизительно могло бы звучать. Но, не говоря уже о том, что предчувствие радостной вести еще далеко не есть сама радостная весть, у тебя нет тех слов, которыми ты мог бы ее сообщить, сделать понятной — не говоря уж о том, что тебе отказывает голос.
Ты представляешь себе это примерно так: Мир — это большое помещение, и наши проблемы возникают оттого, что оно недостаточно освещено. Повсюду спотыкаешься, натыкаешься на какие-то предметы, путаешься, куда идти. Задача, следовательно, в том, чтобы вносить в помещение лампы, столько и до тех пор, пока все не осветится ровным светом, — это и был бы момент радостной благой вести! (Правильно я тебя понял?)
Ну вот, теперь еще и лампы!
Но что если эти самые лампы, которые есть у тебя в запасе, никуда не годятся, если ты все снова и снова их расставляешь, переставляешь, а ничего не выходит?
Ты скажешь: Идем же! Давай! Шевелись! Это отличные лампы. — И вот ты усердствуешь, карабкаешься наверх, нагибаешься вниз, ползаешь на четвереньках — да, да, я вижу твою задницу!
Нужно уметь извлекать свет из мрака, или скажем иначе: Если другого источника света нет, нужно использовать в качестве лампы самое темноту.
Ты себе не представляешь, как ты мне надоел! Я тебя презираю. И все-таки: Ты должен попробовать.
Мох не образуется на катящемся камне: отыгравшая, облезлая гордость.
Иногда я вижу глаза больших сов, круглые глаза, поблескивающие в глубине дупла, вижу их головы, оперенье их крыльев, я сам как пень срубленного дерева, который умеет ходить, вокруг пахнет гнилью, и я танцующей походкой иду по просеке, залитой лунным светом.
Есть места или точки пространства, которые невозможно отыскать, когда ищешь: они должны попадаться на дороге. Но не всегда удается выбрать верный маршрут, вам препятствуют, вас искушают, вынуждают выбирать обходные пути: Так попадаешь в такие места, что и присниться не могло, что ты когда-нибудь там окажешься.
Двое отправляются в одно и то же место и даже прибывают по назначению: Что же ты видел, счастливец, а ты что, несчастный?
Мыслить — значит рассчитывать, говорит Гоббс, и он прав; правда осталась за ним, потому что наше мышление стало опираться на фактический материал.
МЫСЛИ такого, например, философа, как Паскаль, кажутся сегодня не столько мыслями, сколько смелыми фантазиями, — они не имеют ничего общего с тем, что мы видим вокруг себя.
И если какой-то человек пусть даже всего одну-единственную вещь видит иначе, чем Ты — а было бы удивительно, если бы это было не так, — вам никогда уже не встретиться: ибо все, начинаясь в этой тайной точке, будет все дальше расходиться и расщепляться.
Как в столярном деле.
Одно хочу сказать Тебе, друг мой: Если твой мир раскалывается надвое и ты не знаешь, за что удержаться, — и тут появляется человек, который Тебя любит: То держись за него крепко, люби его, но не удивляйся, когда и это разобьется на мелкие части, распадется у Тебя на глазах, и ТЕПЕРЬ Ты снова увидишь старую картину: Разрыв! Пропасть! Мрак! — Это чужбина.
И, если Ты еще никогда не чувствовал, что Ты проклят — просто по той причине, что Ты один из людей, — теперь Ты это почувствуешь.
Единственное, что связывает здесь людей, это СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ.
Идиотизм большинства философов в том, что они верят, будто бы чего-то добились. Конечно, они чего-то добились, но не знают, как же мало это значит, чего-то добиться.
Очевидно, что существует прекрасное, восхитительное, сияющая вечность, то, что тебя возвышает и дает тебе счастье, — но все это не в жизни, а только в мечтах, которым ты предаешься наедине с самим собой.
Несостоятельность философии заключается в том, что она не может дать ответ на твои личные вопросы, их она даже не касается.
Вот почему Я философского сознания — это всего лишь логическое понятие, которому нет никакого соответствия в действительности. И какая же жалкая действительность это твое (наше) Я!
Чем глубже человек осознает себя как существо, обреченное на одиночество, тем больше повышается его потребность найти понимание (Эбнер).
Когда ты валишься на кровать, головой вперед, лицом вниз и в ничто и тебе хочется, чтобы твои ладони и покрывала у тебя на плечах были бы черными морскими водами — и они, действительно, такими становятся: ты тонешь, тонешь, и справа и слева от тебя отворяются двери, двери из застывшей воды, из раскаленного металла — ты видишь распахнутые створки: а потом перед глазами у тебя мчится огненный поток, в котором ты различаешь черные острова, свистящие стволы деревьев на них — тогда попытайся выдержать, без единого слова, без просьбы, без крика.
Теперь тебе, должно быть, представилось, как будто бы над твердью лучится, пробиваясь сквозь облака, солнце и в темном море образовались утешительные пруды или глаза.
Жеребин А.И. Смысл нисхождения
Содержание «Лекции» Петера Розая отмечено тем же сочетанием скромности и гордости, что и ее заглавие — «Очерки поэзии будущего». Речь идет не о систематическом изложении целой поэтики, а всего лишь о фрагментарных очерках, ее подготовляющих, но мысль автора направлена при этом — не более и не менее, — как на создание «поэзии будущего», причем теоретические размышления выступают у Розая в нерасторжимом единстве с опытами художественного воплощения формулируемых им принципов.
После работ Романа Якобсона это никого больше не удивляет. Современная литература осознает себя как свой собственный метаязык, выдвигающий способы сообщения в центр сообщаемого. Традиционная граница между текстом и метатекстом становится все более подвижной, размытой, измеряемой лишь степенью присутствия авторской рефлексии, принципиально наличествующей в каждом тексте независимо от его жанра. Создавая художественный текст, художник «тематизирует» свое ремесло, и он «тематизирует» его, ставит его под вопрос каждый раз, когда им занимается. С этим связан призыв, несколько раз повторяющийся на страницах книги Розая: «Отказаться от какой бы то ни было уверенности — поставить на карту все».
Единство текста и метатекста является для Розая важной характеристикой «открытого произведения искусства»; последнее есть «матрица многих вещей», его значение состоит в том, что оно содержит в себе всю полноту возможных решений, предоставляя каждому читателю актуализировать из них какое-то одно, ему наиболее близкое.
Образу матрицы соответствует представление о «ризоме» или «корневище», противоположностью которого служит дерево, растущее из одного, не распластанного в ширину, а уходящего вглубь корня с ясно очерченными границами распространения. Дерево выступает как аллегория жесткой смысловой структуры, восходящей к единому центру, тогда как «ризома» характеризует постмодернистское понимание текста как плоскости читательских проекций, изучаемых эстетикой восприятия. Розай относит свое знакомство с «теорией ризомы» к началу восьмидесятых годов, когда она была сформулирована известными философами Жилем Делезом и Феликсом Гваттари. Причиной своей симпатии к их взглядам Розай называет «пафос всечеловеческого сочувствия», допускающий максимально широкую свободу мнений и вкусов.
Но свобода, которую Розай провозглашает своим символом веры, имеет привкус горечи. Она проистекает из знания о том, что утрачено, о том, что «действительность» обратилась в фикцию нашего сознания, и «мир» стал «текстом культуры», непрочным и нестабильным. Он постоянно перерабатывается нами в открытом интертекстуальном пространстве, в свете ясного, «источающего могильный запах» убеждения в том, что мы живем «в состоянии относительности», и все вокруг нас есть в конечном счете «вечная игра образцов».
Для автора литературных произведений это означает, что он перестал быть избранным и отмеченным высшей милостью пророком последней истины, «вторым творцом, ходящим под Юпитером», «мессией природы» или «учителем нации». Он деградирует, превращаясь в бедного мечтателя, если не в шарлатана, который творит сны, не веруя в их значение. Его свобода представляет собой противоположность знания и силы, предполагает отказ от претензии на истину, на власть спасительного слова. Его тексты становятся произвольным плетением кодов и их фрагментов, «лесом фикций», через который каждому читателю приходится прокладывать свой путь заблуждений.