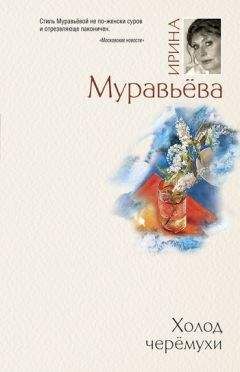Лукерья и Марья теперь всё чаще собирались вместе, гадали о Егоре.
— А что, будет кажно лето ездить сюда, так и Надя веселее, а про нас и толковать чего!
XXX
С августом пришли ночные заморозки.
Сомову надо было собираться в Москву, но он всё не мог решиться уехать. Но ехать надо было. На осень была назначена его выставка, и то, что он сработал за это лето, ему хотелось показать на ней.
Дом Глухова вырос за это время и уже стоял под крышей. Прочный, огромный, он, как гриб, словно сам вырос из земли. Савва на окна навесил наличники такой дивной работы, что видавший много на своем веку Иван Маслов сказал:
— Где же ты такие видел?
— Где-то видел.
— Тебе бы для Кремля работать! Такое, брат, умение — это не плотницкое. Это краснее! Это, брат, диво! Ты их сыми! Не ровен час, завистников накличешь!
С Катей, теперь уже Глуховой, Сомов изредка встречался на улице. Теперь она была вся в заботах о доме. И, провожая её глазами, Егор всё время думал об одном: "А ведь она и моей женой могла бы стать… И так же бы бегала по хозяйству, чего-то варила, стирала…" Такой и написал портрет Кати Сомов. Строится дом, она сидит на свежеструганой лавочке в светлой косынке. Её чистое лицо словно излучает тепло материнства. Левой рукой она прикрывала правую, то место, где у неё шрам. Об этом знали только Сомов и Катя.
Десятого августа Савва пригласил на новоселье. В подарок Егор выбрал полотно с черёмухой. Одна из первых по приезде его работ. На скобленом столе в глиняном кувшине стоит огромный букет черёмухи. Писал он его с удовольствием, и получился он праздничным.
Народу на новоселье пришло много. Когда Егор с Надей вошли в дом, то на мгновение остановились, так он на них подействовал. Высокий, в пять метров, светлый, обитый гладко оструганными кедровыми плахами, которые источали таёжный смолистый аромат. Вдоль стен разные лавки. А стол, накрытый человек на сто, был так обилен, что и не верилось, в самом ли деле всё это растёт на их земле.
Гостей встречали хозяева. Катерина — в старой цыганской шали, Савва — в сером костюме. Картину, подаренную Сомовым, тут же повесили на стену и ахнули — до чего она пришлась в пору. Иван Маслов с мужиками, что работали, внесли кровати и шкафы из кедра:
— Получай, Екатерина, для платьев, для рубах. Ну, на койке и полежать можно, коли будет охота!
Мебель была сработана на диво. Все открывали, закрывали шкафы, спорили, что теперь уже никто такие не сделает! Наконец унесли в спальню.
В самый разгар гулянки пришёл Яшка-паромщик. И он принёс подарок: завёрнутую в газету гимнастёрку.
— Для работы — милое дело! — сказал Яков. — Она у меня с фронта. Не полиняла. Друг у меня был, Серёжа Пря-хин. Большой, как ты! Нам тольки выдали амуницию, а ему на пост. Ушёл, и всё… И убили. Так я гимнастёрку для памяти взял. Сорок лет пролежала, а она всё новая. Она новая, а Сережи нету. Носи, Саввушка!
Савва принял подарок, посадил Якова. Пожилые женщины всплакнули, да и все как-то вдруг притихли. Война помнилась и ещё болела. Цыпин встал и, взяв баян, объявил:
— Кончай воевать!
Тут же запели "Рябину", после "Священное море". Про бродягу пелось особенно хорошо. Женщины его жалели, мужчины в бродяге видели себя. Как спели, тут же вскочил чуть выпивший Усольцев:
— А почему мы современные песни не поём?!
— А ты попробуй, милый! — засмеялась Лукерья. — Окромя стыдобы, ничего не выйдет!
— Это почему?! — не сдавался Усольцев.
— Непонятны они нам! — сказал Иван Маслов. — Они как жестянки, гремят, гремят! Прямо весь белый свет имя заполнили!
— А знаете, — сказала Надя, — знаете, в них нет коллективной жизни!
— Духа и души нету в них, — сказал мрачный Кирьянов. Он всегда был как бы мрачным и хмурым, а на самом деле очень душевным человеком. Восьмой год работал председателем колхоза. Говорили о песне все и пришли к одному, что нынешняя, современная, как град, выбивает песенные ростки народной песни. Стали даже слова из новых песен вспоминать. Выходило пошло и глупо. Все эти песни жили в отрыве от народа, от его духа, от его внутренней и глубокой жизни.
Надя слушала разговоры с особенным интересом. Она открывала для себя то, что уже само назрело в душе, но не определилось до конца. Усольцев давно уже сдался. Но жена его, Лена, всё ещё продолжала спорить. И далее в протест запела "Миллионы, миллионы алых роз…", и тут все захохотали, так нелепо встряла эта песня — не песня, а что-то непотребное и дикое.
Расходиться стали, как стемнело. Лукерья и Марья Касьяновна остались помочь. Осталась и Надя. Когда вышли, Усольцев подошёл к Сомову.
— Согласитесь, что невероятно, но факт! И дом есть, и семья! Нет, утвердительно говорю, не потянул бы я с такою силой! Савва — это факт налицо! Это что-то прямо… Я даже не знаю, что это!
Цыпина, подхватив под руку Егора, тихо сказала:
— Повезло Катьке! Могло бы и побольше повезти!
— Нет, ребята! — протестовал Усольцев. — А дом! Музейный экспонат!
Прощаясь с Сомовым, Усольцев сказал:
— Извини, но я перебрал… мне бы только с Ленкой развестись… Но как?!
— Молча, — сказал Сомов.
— Да, вы правы… Надо быть решительнее! Очень надо! Перед сном Егор зашёл к Наде. У них уже сложилось
так, что перед сном они о чём-нибудь говорили. Прощаясь, Надя задержала в своих руках руку Егора, но он сделал вид, что ничего не заметил. На душе у него стало пусто, и он догадался, что Катерина ушла от него навсегда.
На другое утро Сомов уехал на этюды в таёжное село Моты. Уехал один, предупредив только Лукерью. В Мотах он остановился в маленькой гостинице, или, как тут она называлась, в Доме приезжих. Состоял он всего из четырёх комнат. Три пустовали, а в четвёртой жил он.
Прожив неделю, однажды ночью Сомов проснулся от страха. Не помнил, что приснилось, но страх и мучительная тоска разрывали сердце. Сомов едва дождался рассвета и с первым бензовозом выехал в Вельское. Чем ближе он был к дому, тем нестерпимее его тянуло туда. Даже шофер разнервничался:
— Ты это что, однако, того! Ты это, чуешь, что ли?
— Ничего я не чую. Гони, гони!
— Да я гоню! Машина, холера, не бойкая!
Выскочив у ворот, Егор вдруг остановился. Было, наверное, часов девять. Высоко на горе ходило стадо. На берёзах уже висели золотые пряди. Ещё день-два, и начнут косить хлеб. Пока его не было, у дома Глуховых вырос забор и высокие ворота. Ставни были открыты. И Сомову до боли захотелось, чтобы из ворот вышла Катя! Он ждал, сидел, и напрасно. Потом он повернулся к Надиному дому. Ставни были закрыты… Опять нехорошее предчувствие засосало под сердцем. Занемели пальцы. Он толкнул калитку и прошёл в дом. В доме у печки сидела Надя. Лицо её, словно выбеленное известью, было потерянное.
— Надя! Что случилось, Надя?!
— Егор, бабушка умерла…
X X Х
Схоронили Марью Касьяновну на старом кладбище у церкви. Кладбище это стояло высоко над селом, и росли на нём могучие столетние пихты. К зиме пихты сбрасывали свой мягкий игольчатый наряд, а к весне вновь наряжались. Ребятишки бегали сюда собирать пихтовые шишки.
После похорон были поминки. Приехали родители Нади. Готовила на поминки Лукерья в своём доме, помогала ей Катя. Притихшая Роза тоже помогала, чем могла. К вечеру все поминавшие разошлись. Остались родители Нади. Сергей Лукьянович Истомин говорил мало. Мать Нади, Нина, нервно оглядывала дом, перебирала платочек и все глядела на дочку.
— Надя, — тихо сказал отец, — завтра домой.
— Да-да, домой! Только домой! — поддержала его жена. Надя молча смотрела в окно.
— Что же я дома делать стану?.. Я же не спущусь с четвёртого этажа!
— Квартиру поменяем. А как же по-другому?
— Оставьте девочку мне, — попросила Лукерья.
— А вы меня… Вы меня возьмёте? Лукерья Лазаревна, возьмите!
Мать вскочила с места, заплакала.
— Это невозможно! Как же так, что ты домой не хочешь возвращаться?! Ведь мы не чужие! Мы же родители!
Сергей Лукьянович поднял свою красивую тяжёлую голову и в упор посмотрел на дочь.
— Я не поеду, папа… Я от вас отвыкла, должно быть… Я понимаю, что жестоко это говорить, но лучше же правду сказать.
Сомов увидел, как Надя похожа на своего отца. В ней, как и в нём, были удивительная сила духа и сосредоточенность в себе.
— Уж седня-то споров бы и не надо, — сказала Лукерья, — погоревать-то бы о Марье… Как это вот — выйду, а её нет?! Как же?.. Ведь пятьдесят годов без малого мы на лавочке вместе просидели! Уж она-то меня дождётся! Ох, не было лучше у меня подруженьки.
Отец встал, обнял Надю своими огромными ручищами:
— Тогда мы поедем. Живи! Я через неделю к тебе, к воскресенью.
— Отец, что ты говоришь! — вскрикнула Нина.
Надя прижалась к отцу, и Сомову стало ясно, что в нём тоже Наденька искала вот такого сильного и умного человека, как её отец. Он видел, что их любовь друг к другу — любовь высокая, крепкая.