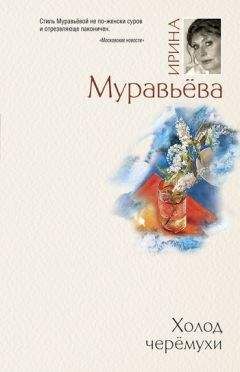Сомов, завороженный огненной пляской неба, сидел, не зажигая света, посреди мастерской, Лукерья убежала к тёлке, чтобы той было спокойнее с хозяйкой. Егор не увидел, не услышал, а почувствовал, что в дверях Надя. Он повернулся. Наденька бросилась к нему, забыв о кресле, и чуть не упала, но Сомов успел подхватить её на руки.
— Егор! Милый! Я так бежала сюда… Я бежала к тебе, сказать, что ты волен в своих чувствах! Понимаешь, милый мой, так нельзя любить, как я, нельзя! Это грешно и преступно! Любовь не должна быть эгоистичной! Если любишь — значит, любишь, и всё! Ведь правда? Вот бабушка меня любит и ничего же не требует взамен! И всякая любовь, она должна быть очень высокой! Она должна быть такой высокой, чтобы мы, даже если… Вот даже если бы захотели, не достали бы её! Она как солнце… И ты меня прости! И пожалуйста… Егор, у меня была Катя… Что делать? Ты её люби! Она очень… Если хочешь знать, я не имею права на любовь! Но как мне хорошо с тобой… Почему-то совсем не страшно. А когда тебя нет, мне ужасно страшно! Мне кажется, что я скоро умру! Но у меня был ты! И если я умру, был ты… — Наденька заплакала, уткнувшись ему в плечо.
За окнами всё стихло, и тут же сплошной лиловой стеной обрушился ливень.
После грозы на короткое мгновение всё жило тихой, спрятанной жизнью. Но выглянуло солнце, и омытый, заполненный озоном и испарениями трав воздух стал лёгким, запели птицы, а над островом выросла радуга.
— Воду пьёт, — сказала Надя, глядя на радугу. Она уже успокоилась, и только чуть побледневшее лицо её ещё хранило следы падавших слёз. — Егор, а почему ты никогда не рассказываешь мне о своей московской жизни? — вдруг спросила она.
— Не знаю.
— А ведь мне интересно, как ты добивался успеха, как жил.
— Всё это я могу уместить в одно слово — труд.
— У тебя бывали отчаяния?
— Да… Видишь ли, Надюша, я приехал в Москву, уже не имея родителей, а следовательно, и поддержки. Но я не пробивал себе дорогу локтями, хотя следовало бы. И когда признание получали пустые, наглые… Не хочется сейчас об этом говорить. Ещё не отболело. Но вот что всегда меня поддерживало, так это то, что я — русский человек, пришедший на эту землю, чтобы увидеть её глазами своего народа. Немного, да?
— Немного.
Надя замолчала. Видимо, никогда раньше ей не приходилось думать об этом.
— Егор, а ведь все эти люди, что нас окружают, и есть наш народ?
— Конечно.
— И мы сами есть часть его.
— И мы сами плоть от плоти его.
— Как это здорово! Послушай, так вот же и смысл жизни! Прибавить к имени народа ещё пусть негромкое, но и своё! Вот я часто бываю на кладбище. Оно очень старое, но каждая могила сохранилась. Там даже есть самая первая! И есть дата — 1689 год. Здорово, да? Дата есть, а имя человека стерлось. Я спросила одну бабушку: а кто там похоронен? Она ответила так, словно всегда знала этого человека: "Там-то? Так Никола Полуянов. Никола Хрисанфыч!" Стала я о нём узнавать. Оказывается, он первый срубил деревянную часовенку. И об этом помнят. Понимаешь, жил на земле Никола Полуянов! Добрый человек, русский.
Вошла тётка Лукерья:
— Притихли чего?
— А мы не притихли, мы разговариваем.
— Ну да и я с вами. А то бы пошли подышали? Не воздух — мёд! Егорша, я вот что хочу спросить: как помру, с домом как? Дом жалко. Дом хороший!
— Не помирай, тёть. Живи.
— Ладно, поколь поживу, а после? Я ить на тебя дом записала.
— Надюша, давай займёмся музеем? Станем собирать иконы, посуду, мебель…
— И стеклотару! — раздался неожиданно низкий голос.
Егор повернулся и увидел на пороге огромного светловолосого мужика. Лет ему было около сорока. Лицо загорелое, чуть выпирающие скулы. Глаза серые, красиво очерченные тёмными ресницами.
— Савва! — радостно крикнула Надя.
Савва, чуть пригнувшись, вошёл в мастерскую.
— Здорово, Надя! Здорово, Лукерья!
— Да ты как к нам собрался?
— Потянуло.
— И то! И то! Без людей жить… И то! А это племянник мой, Егор.
— Да слышал, — сказал Савва и руки не подал.
— Савва, ты что?! — возмутилась Надя. — Почему руки не подал, не познакомился?
— Велишь? — спросил он.
— Велю!
— Добро. — Савва неслышно и в то же время мгновенно оказался рядом с Егором. Протянул ему руку. Ладонь была огромной, и, когда Савва пожал руку Сомова, тот понял, что в этой ладони камень хрустит.
— А я, собственно, за вами, Егор Петрович.
— Да ну?
— Да. Баню я сладил. Прошу.
Сомов согласился.
— Так мы после бани придём! — сказал Савва Лукерье и быстро вышел.
— Он не ходит, а летает, — сказал Сомов.
— Точно! А в баню сходи, сходи! — поторопила его Надя. Вышли за ворота.
— Сейчас жары пойдут. Косить можете?
— Нет, — признался Егор.
— А косить надо. У тётки — корова.
— Я знаю.
— Я тебе вот что скажу, Егор Петрович, ты тут не играй, понял? Тут тебе не место играть.
— Я не понял.
— Не понял, да? Понял ты. И музея никакого ты не сладишь. То-то! Знаю я вас.
— Это кого "нас"?
— Тебя!
— Ты меня в баню пригласил или учить? — Сомов остановился.
— Не нравится? — спросил Савва.
— Не нравится.
— Тогда прости.
— Бог простит! — Сомов повернулся, чтобы уйти, но Савва оказался впереди.
— Ладно, остынь. Я же сказал, прости — значит, прости.
Дальше пошли молча. Проходя мимо столовой, Савва выругался:
— Ну ты погляди-и! Столовую в селе, а?! Чтобы бабы вовсе отучились готовить.
— А если кому некогда!
— Это кому некогда? Погляди, кто в этой столовке? Одни алкаши! Получается, не деревня, а сброд! У меня дед правильно сказал: вся пьяная зараза пошла после отмены крепостного права.
— А ты сам не пьёшь?
— Никогда.
— Серьёзно?
— А зачем? Ты знаешь, Егор Петрович, и женщины меня боятся. Ты, говорят они, чёрт! А я не чёрт! Я леший! — Савва улыбнулся. Зубы у него оказались белые, ровные.
Баней заведовал Яшка-паромщик. Он бегал в одних кальсонах, обливаясь потом, из бани к колодцу.
— Воду вам достаю! — отрывисто, словно пролаял, сказал Яшка. — Колодезная вода после бани — как вермут с утречка!
Когда разделись, Егор с восхищением оглядел фигуру Глухова. Под белой, в отличие от лица, совсем незагорелой кожей ходили бугры мышц. Плоские и твёрдые, как булыжники. Яшка даже перекрестился.
— И как ты такое носишь? — Он покачал головой. Савва взъерошил свои золотистые курчавые волосы и кивнул на дверь:
— Как там?
— Зверь! — делая страшное лицо, сказал Яшка. — Туда войдёшь, обратно вынесут!
Сам Яшка не парился, но баню делал хорошо. Для него было истинным удовольствием наблюдать за парильщиками и слушать похвалу.
— Ты нынче, Яшка, себя превзошёл! — лёжа в ледяной ванне, рокотал Савва.
— Во! Четыре куба дров сжёг! Думал, брёвна лопнут!
Поначалу жар оглушил Сомова. Казалось, ещё мгновение — сердце лопнет, а лёгкие сгорят! Воздух стоял как раскалённое стекло. И вдруг на белые от жары камни Савва плеснул густого настоя ромашки и донника.
Пар ударил в потолок так, словно разорвалась граната. Егор присел, и тут же горячая пахучая волна прокатилась по всему телу. Пот потёк обильный. Егор парился на полу, а Савва забрался на самый верх.
— Егор, после я тебя веничком пройду!
Мылись долго, до самой темноты. К вечеру Яшка, выпив свой очередной стаканчик, пошёл мыться на речку.
— Мене речная вода бодрит! Плеснусь в ей, прямо как стаканчик выпью!
Было видно, что Савва жалел Яшку. Через его длинную, как огурец, лысую голову шёл шрам.
— С войны принёс, — сказал Савва. — Через этот шрам у него и с головой нелады.
Возвращались по темноте. Пахло огородами. Савва заговорил о Наде:
— Ты вообще ладно придумал с музеем. Ей надо. Она деликатного толку. Как моя жена.
О своём прошлом Савва помалкивал. Уже подходя к Лукерьиному дому, он неожиданно сказал:
— Жениться пришёл.
— На ком? — спросил Сомов.
— На Мамонтовой.
Егор даже с шага сбился от неожиданности.
— Да, Катя очень красивая…
— Ты-то как, всерьёз или просто? — спросил его Савва. Егор понял, что он всё знает.
— Вообще… Я не знаю, — сказал он честно. — А что же ты раньше думал?
— А я не думал. Сегодня Епифанов рассказал, вот я и надумал. Завтра предложение сделаю. Нет — нет! Да — да! Надо в село переезжать.
— Устал один?
— Устал. Без людей нельзя. Пойду в колхоз.
— А кто же егерем?
— Найдут. Мне в колхоз надо. Я ведь человек земляной, а вот взял и отошёл. Стыдно. Как будто спрятался от земли.
Эти слова потрясли своей правдой Егора. Было видно, Глухов выстрадал всё, что сказал. У самого дома Егор почувствовал — пахнет берёзой.
В доме их уже ждали. Самовар клокотал от ярости. В жёлтой миске стоял мёд, моченая брусника, топлёное масло ещё потрескивало от жары. Тут же стопкой лежали блины.