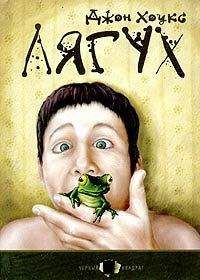Начало Великого Опустошения наполнило Папу мальчишеской гордостью. Как он любил свой жесткий, плохо подогнанный мундир, и особенно, кепи, которое величаво сидело на голове и низко опускалось на лоб! Вообразите себе его радость, когда они уезжали в «ситроене» вместе с молодым графом: Папа за рулем, а граф — на заднем сиденье, в своем сшитом на заказ мундире. Граф был так серьезен, что даже не попрощался с молодой женой и верной кухаркой, которые махали тонкими платочками вослед роскошному автомобилю, как бы призванному на службу вместе со своими важными пассажирами.
Бедная Матушка! Она была обречена на огорчения либо неприятности, или то и другое вместе, вызванные сыном либо отцом, или ими обоими. Представьте себе мою Маму, такую же молодую, как графиня, и еще миловиднее, чем она! Ничто не оправдывало ее существования и не внушало ей хотя бы малейшего чувства собственного достоинства, кроме кулинарного искусства, которым она занималась на славу — ради всех нас. Бедная милая Матушка! Как благородна была ее сентиментальность! Если бы она только могла хоть раз увидеть Армана — и не глазами несчастной Соланж, а моими собственными!
Когда Папа вернулся в первый раз, сдерживая гордую мальчишескую улыбку, он доставил графа обратно, под ликующие возгласы небольшой толпы жен и смущенных крестьян. Среди них было несколько мужчин, которые еще не сгинули в смутных шеренгах, ну и, конечно, я. Возвращение этого бедняги не доставило мне никакого удовольствия, поскольку его безудержное веселье разрушило ту радость, которую я мог бы почувствовать, увидев, как он отдает честь графу и поворачивается к Маме. Та широко улыбалась, забыв об этикете и принимая его с распростертыми объятиями. По этому случаю, Папа полночи не давал нам с матерью спать своими рассказами и объяснениями собственного везения. Хорошо, что хоть у Армана хватило ума сидеть смирно, пока мы с Мамой потакали папиному упоению собой.
Папа пережил небольшое разочарование, на котором не хотел долго останавливаться: его не назначили графским денщиком. Однако он получил достаточное вознаграждение, поскольку вся армия нашей страны, или, по крайней мере, целый ряд командиров, ответственных за благоденствие сынов отечества, включая самого Папу, относилась к нему с редкостной благосклонностью и здравомыслием.
— Двадцать и один! — не раз восклицал Папа в течение этой долгой ночи. — Двадцать и один!
Видимо, эта странная фраза напоминала ему о двадцати двух зубах моей несуществующей бабушки, поскольку он еще долго повторял ее себе под нос, после того как разъяснил нам ее смысл. От этих двух слов зависела вся папина жизнь или, точнее, перемена в его жизни, которая оказалась действительно серьезной.
— Еще вина, Мишель-Андре? — спрашивала сонная Мама, вероятно, надеясь, что это угомонит отца и ему, наконец, захочется спать.
Но в полнейшей тишине он радостно и невнятно бормотал: «Двадцать и один!» — а затем снова с жаром рассказывал о работе, доверенной ему генералами. Объяснение, которое ему удавалось столько часов от нас скрывать, было простым: кавалерия! Вот где собака зарыта, как выразился мой отец.
От чего зависит наша великая кавалерия? На чем она зиждется, словно вера на твердой скале? Конечно же, на лошадях. И как можно доставить лошадей нашей страны на фронт? Конечно же, на поезде. А как лошадей, сотни лошадей, перевозить на поезде? В товарных вагонах! Где же еще? — воскликнул Папа, щелкнув пальцами. Но могут ли наши дорогие лошади ехать одни? Да нет же! За лошадьми должны ухаживать люди! Как бы они могли есть и пить в полутьме вагонов, совершая длительные поездки на поля позора и доблести, где их ждали? Только благодаря людскому усердию. И как успокоить этих лошадей, эти чувствительные создания, и уберечь их от паники и неизбежных увечий, когда, охваченные невероятным испугом, они слышат внезапную боевую канонаду? С помощью людской заботы и подбадривания. Вот именно! Мы должны понимать, — говорил Папа, вещая, как школьный учитель в форме, которым он, сам того не ведая, всегда хотел быть, — что наши вагоны не так уж велики. На самом деле, они малы. И шатки. Но главное — малы. Понадобилась точность. И тогда вперед выступили наши военные умы и спасли положение. Они измерили вместимость одного вагона. Представляете? Неудивительно, что эти люди пользуются таким уважением. Так вот, было установлено, что один вагон способен вместить двадцать лошадей, не больше и не меньше, и вдобавок к этому — одного человека, который будет удовлетворять физические и моральные потребности двадцати лошадей, вверенных под его ответственность. И это была большая ответственность, — сказал Папа, — вплоть до очистки вагонов от навоза, когда позволяли обстоятельства.
Поэтому на каждом вагоне, содержавшем ценный груз из живых лошадей и одного трудолюбивого, смышленого человека, нацарапали мелом: «Двадцать и один». Проще не придумаешь! «Двадцать лошадей и один человек». А если бы эти вагоны с особым грузом не пометили, то где очутились бы наши дорогие лошадки? Что бы, например, стали делать с лошадями наши полевые кухни? Или артиллерийские части, которым нужны снаряды? Или представьте себе полевые госпитали, внезапно наводненные не ящиками с морфием, а лошадьми! «Катастрофа, Мари», — сказал Папа, улыбнувшись и залпом осушив свой бокал. В этот поздний час меня и Маму уже одолевал безжалостный сон.
Вечная слава генералу, — продолжал Папа, — который наткнулся на папино имя в длиннющем списке и, признав в нем практичного человека, тотчас приказал поступить в кавалерию. Конечно, не конником (Папа никогда в жизни не сидел на лошади, как ясно указывалось в его документах), а тем, кто способен взять на себя почти невыполнимую обязанность по сопровождению вагонов с лошадьми на фронт. Слово «фронт» стало теперь одним из его самых любимых.
— Чудесно, Мишель-Андре, — прошептала Мама, — но уже пора спать. Тебе же завтра на работу.
Наверняка, большинство ребятишек глубоко волнует все связанное с лошадьми. Но только не меня! В ту ночь нас с Мамой не интересовали все эти папины россказни, и я не находил ничего вдохновляющего в том, что отец вернулся солдатом, или в вагонах, которые казались ему, в отличие от меня, настоящими огненными колесницами. Кавалерийский конюх — вот до кого дослужился мой Папа! Даже в ту ночь от него слегка несло овсом и навозом, который ему еще недавно приходилось выгребать. По крайней мере, сказал он в завершение, кавалеристы, в отличие от большинства бедолаг-пехотинцев, могут щегольнуть медалями! Но даже этот факт не придавал занимательности отцу, которым мне следовало бы в ту ночь восхищаться. Он был всего лишь конюхом и не получил даже звания капрала! Бедняга.
Однако меня действительно взволновало, вызвав неподдельный интерес, второе папино возвращение, которое, кстати, оказалось последним. Во-первых, он вернулся к нам не за рулем бежевого графского лимузина, а в кузове небольшого разбитого военного грузовика. Папа уже не придерживал дверцу автомобиля для графа, а сам водитель со свисавшей изо рта сигаретой помог отцу слезть на землю. Папа был изможден. И не улыбался. Его встречали графиня, мать малютки Кристофа, несколько крестьянок и, конечно, Мама — жалкая кучка людей с непокрытыми головами столпилась на белом снегу, пытаясь скрыть свое горе. Все, кроме меня. Я-то не горевал! Как раз наоборот! Ведь человек, который стоял перед нами, в гневном смущении опираясь на деревянные костыли, больше не был тем бахвалом, который покинул нас лишь несколько месяцев назад. Вовсе нет! У него не было ноги! Правой! И при виде этого чуда я воспрянул духом! Ведь я никогда не видел одноногого человека, и отсутствующая папина нога, которой никто из нас больше никогда не увидит, настолько завладела моим воображением, что даже Арман выразил зависть, несмотря на свою отрубленную лапку — ножку или ручку, как я до сих пор предпочитаю ее называть. Так что же я такого сделал, чем до глубины души потряс опечаленных женщин? Не в силах больше выносить боль и наслаждение (первая снова вспыхнула в животе благодаря Арману, а второе завладело всем моим существом благодаря Папе), я вырвался из маминых рук, бросился вперед и обнял оставшуюся папину ногу. Признаюсь, она казалась мне почти столь же соблазнительной, как и ее отсутствующая напарница, и я прижался к ней с любовью, которая была совершенно новой для меня и, наверное, для моего отца.
— С приездом, Папа! — воскликнул я, испугав бедную мать, но оставив равнодушным отца. Как крепко обнимал я эту оставшуюся бесчувственную ногу, тайком поглядывая на штанину, приколотую к обрубку другой! Какая разница, что от него воняло конюшней? Какая разница, что у него на груди не было маленьких ленточек, указывающих на будущие медали? Он раненый! Необыкновенный человек! Разве не этого хотел я с самого начала? Этого! Именно этого!