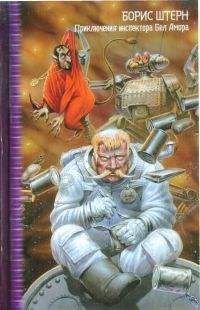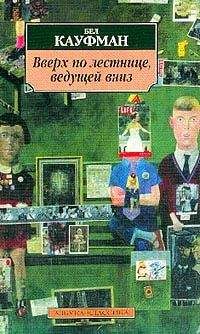Но Кафка был всего лишь незаметный пражский литератор, отшельник и невротик, отказывающийся печататься, а не дорожащий своим престижем американский писатель, как Юджин Порху, один из тех, кто всю жизнь жаждет написать такую книгу, которая представляла бы образец высокой, оригинальной, художественно-интеллектуальной литературы, а не просто увлекательное чтение и при всем том сделалась бы массовым, многотиражным бестселлером, по которому снимут кассовый блокбастер, обещающий гонорарчик в кругленькую сумму в пару миллионов долларов.
На ужин в тот вечер Порху попросил жареных колбасок, лучше с зеленым перчиком. Полли купила колбасок и перчика, которые он с удовольствием съел. По правде сказать, ему надоел клей. Полли не поняла, о чем говорит муж, когда он упомянул об этом.
Объяснить ей он не потрудился.
Не хочет ли он достичь недостижимого? — спрашивал себя Порху. Из тех писателей, перед кем он преклонялся, многие ли ушли из жизни богатыми людьми? Многие ли хоть раз держали в руках авторский экземпляр массового, многотиражного бестселлера, по которому затем сняли блокбастер, и заработали двухмиллионный гонорар?
Нет, не Кафка. И уж конечно, не Мелвилл и не Достоевский, которые бедствовали всю жизнь. И не Марк Твен, который нажил кое-какое состояние, но потом запутался в долгах и пережил к тому же семейную трагедию. При имени Марка Твена в мозгу пронеслась мысль о новом подходе к Тому Сойеру, но он отложил ее на будущее. Вместо этого он подумал, что сейчас набросает список тех писателей, которые все свои годы провели в безопасности и достатке, если не роскоши, заранее зная, что список будет не длинен. Он порылся в памяти, перебирая имена и даты, приготовленные им для лекции о литературе отчаяния, которую ему скоро предстоит прочитать. На ум не пришло ни одного имени. Он откинулся от стола, чувствуя, как в нем закипает ярость.
Порху был недоволен собой. Больной, злой, непривлекательный, к тому же себе на уме. Хандра — вот то слово, которое лучше всего передает его состояние. Он хандрил с каким-то мазохистским удовольствием. Он искал повода придраться к Полли, рявкнуть на нее, сорвать на ней злобу. Но Полли, если только сама не поддавалась плохому настроению, была женщина терпимая и отзывчивая, не то что его прежние две жены, она чутко улавливала состояние мужа и благоразумно держалась в стороне, пока не пройдет гроза. Порху чувствовал почти физическую боль, казалось, будто у него из печени и из сердца выходят вредные вещества. Он рвался в бой.
Он рвался к столу. Его осенила идея. Вырисовалось начало. Понравилось название.
ХАНДРА
Зовите меня Джин. Я больной… злой… непривлекательный. К тому же подлипала и ябеда. Я скрываю свою сущность, обитаю в глубине, где меня никто не обнаружит. Я не всегда бываю в форме, и здоровье оставляет желать лучшего, но это меня не беспокоит. Мне безразлично. Я не таскаюсь по докторам. Когда мне не по себе, я наношу вред другим, проделывая над ними неприятные манипуляции. Я заявляю о своей природе хитростями и мошенничеством. Сколачиваю с подобными мне тайную банду, чтобы погубить кого-нибудь в раннем детстве, а это дурно. Погодите, а почему, собственно, дурно? Не слишком ли много людей развелось на земле? Их всегда был переизбыток.
Это факт. Оглянитесь на прошлое. Посмотрите, что происходит теперь. Неспособные выжить не должны жить. Рано или поздно такие вымирают.
Собираемся мы с сородичами и скопом натравливаем огромные массы обычных добродетельных и богобоязненных людей на огромные массы других обычных добродетельных и богобоязненных людей, и те убивают друг друга и творят ужасные вещи над женщинами и детьми. Мы подстрекаем убивать и калечить без угрызений совести, без сожаления и раскаяния, но с радостным убеждением в своей правоте и самодовольным сознанием исполненного долга.
Примеры?
Сколько угодно.
Посмотрите на Африку, Европу, Азию, посмотрите на Англию и Америку — стоит только начать список, конца не будет. Я могу начать с любого места на земном шаре и во все времена. Могу начать с любой известной человеческой цивилизации и не смогу перечислить все, потому что зло и зверства, которые цивилизованные плохие мужчины и женщины чинят другим мужчинам и женщинам, по-прежнему перевешивают способность истории занести их в свои анналы.
Это наша работа.
Зло заложено в природе человека.
Это тоже наша работа.
Я знаю, о чем говорю.
Я стар, и я побывал почти повсюду и повидал почти все. Я был с Достоевским, когда он бился в припадках и испытывал всяческие мучения. Его сжигала изнутри гнусная завистливость и самоубийственная злость, и я помогал ему загнать в подполье его человека из подполья. Я был и с Толстым. Парадокс: старый писатель ненавидел толпы почитателей, ненавидел свою жену, но, уйдя из дома и умирая на железнодорожном полустанке, протянул несколько дней и этим дал время собраться толпе знаменитостей и журналистов, а его жене приехать — словно для того, чтобы он видел, что она видит, как он умирает. Еще более низкую шутку мы учинили с Гоголем. Мы свели его с ума, внушили ему жуткий страх перед пиявками. Он пытался уморить себя голодом, потом закололся и, умирая, увидел, что облеплен пиявками, — это врачи пытались продлить ему жизнь. Удачнее всех, наверное, встретил свою кончину Пушкин. В тридцать семь лет поэт был убит на дуэли наглым авантюристом, который бессовестно волочился за его молоденькой женой-кокеткой, и Пушкину ничего не оставалось, как драться с ним. Бедный Достоевский всю свою бурную жизнь не знал ни покоя, ни здоровья, ни материального благополучия. Когда у него заводились деньги, он просаживал их за зеленым сукном. Когда писал, то столько раз переписывал, переделывал и приступал заново, что сам черт ногу сломит, не говоря уже о теперешних и тогдашних исследователях.
До чего забавны эти игры и ирония судьбы, правда?
Вы у меня животики надорвете.
Хотите еще послушать?
При царе Максим Горький был вынужден бежать за границу. При коммунистах Исаака Бабеля упрятали в тюрьму, где он и сгинул.
Русским писателям вообще не везло, меньше, чем просто русским.
Вы не поверите… впрочем, от того, поверите вы или нет, мне ни тепло ни холодно… так вот, я вместе с Ионой был в чреве кита. Я был с Германом Мелвиллом и его белым китом на гребне его успеха — писателя, а не кита — и вместе с ним впал в нищету и забвение из-за чрезмерного пристрастия к этому самому киту, который повредил его создателю больше, чем кто-либо другой. Если вы верите в существование капитана Ахава и Моби Дика, то должны согласиться, что я был с ними, с ними обоими и с каждым в отдельности до конца. Попробуйте угадать, за кого я болел. Держу пари, что ошибетесь. Я не был ни на чьей стороне. Я не сочувствовал ни тому ни другому. У меня нет чувств.
Я много старше вас и знаю, что говорю.
Мы — вы и я — были рождены в одно время — год в год, минута в минуту, если угодно знать. Но я появился раньше, задолго до вас, следовательно, я старше вас и знаю больше. Хотя мы родились одновременно, но я гораздо старше, чем кто бы то ни было из ваших настоящих или придуманных знакомых, но я хорошо сохранился, у меня цветущий вид.
Я видел, как распинали Иисуса Христа. Я был с ним на кресте и с римскими солдатами у изножья креста, я был с каждым из них и в каждой клеточке их существа. Я стоял среди толпы зевак и был с каждым мужчиной и каждой женщиной, с каждым взрослым и каждым ребенком. Я был частью толпы, значительной частью. Я был ни за толпу, ни за распятого мессию. Я был старше всех их, вместе взятых, ибо рожден прежде них. И никто из них не подозревал, что переживает то, что должен был переживать, независимо от того, кому поклоняется и кому подчиняется. Мы сделали так, что высокоразвитые, мыслящие и чувствующие человеческие существа суть создания сознания, над которым они не властны, что у них нет ни грамма свободной воли и они никогда не могут и не смогут поступать как хотят.
Миром движет сознание, а не личность, в которой оно заключено.
Хотите верьте, хотите нет — знаю, что не поверите — я старше Мафусаила. Много старше. Да, сэр. И если человек действительно сотворен по образу Божьему, то я уже сидел в Адаме и был старше, чем он, и был с Евой и так же наг, прикрытый только фиговым листком. Может быть, я обитал в Эдеме до нашей общей пары предков, если первыми были сотворены животные, и даже до них…
И сегодня я существую повсюду разом и всегда в одном и том же месте.
Бьюсь об заклад, вы догадались…
Конечно, догадались. Я — ген. В начале я назвался Джином, но это потому, что в моем родном английском языке «Джин» и «ген» пишутся и произносятся одинаково. Помещенный в определенном месте хромосомы (точнее говорить не буду, все равно не поймете), я вместе с ней живу в каждой клетке вашего тела и любого другого человеческого тела (не поручусь, правда, за каждую яйцеклетку и каждую клетку сперматозоида), а также в теле животных, многих из которых вы не признаете за близких родственников. Нас, генов, тут куча на моей хромосоме и всюду, где мы обитаем — не то чтобы как сельдей в бочке, потому что у нас нет ни бочек, ни сельдей, но тысячи и тысячи нас выстраиваются в линейном порядке между нитевидных спиралек ДНК. Мы научились ладить друг с другом и тесно, регулярно сотрудничать. Мы испокон веков заселили все мыслимое и немыслимое живое.