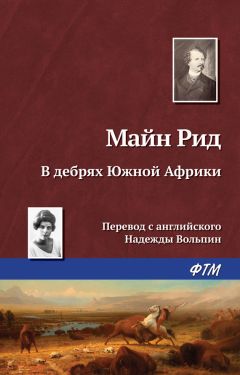Стучали в дверь. Он торопливо встал, пошел открывать. В фойе ворвались уборщицы.
– Спишь, что ли?!
Пробормотал что-то.
Уборщицы надевали черные халаты, резиновые перчатки до локтей, гремели ведрами, вытаскивали шланги.
Он вышел на улицу, поднял воротник, глубоко в карманы сунул руки и зашагал среди голых деревьев, между домами, уходящими вверх.
Появился первый трамвай, но он двигался в противоположном направлении. Уже на полпути к дому этот трамвай нагнал его, и
Охлопков вошел и сел. Сиденье было холодным. В трамвае, кроме него, ехали люди с сумками, видимо, с вокзала. Человека с зеркалом под мышкой среди них не было.
Пространство важнее времени: незыблемей, необъятней.
Вдруг вспомнился стишок современного жителя пустынь, араба Адониса.
А Эйнштейн утверждал, что о пространстве могут думать лишь сумасшедшие и дети.
Павел Кузнецов об этом думал. Говорил, что так и стал живописцем – как только почувствовал пространство. Но как именно он его почувствовал? Об этом ни слова.
Охлопков не забыл, как это было у него. Пространство лопнуло, забрызгав лицо, ресницы, рубашку краской. Запах угля, густо-желтых соцветий пижмы, крови. Нет, уже не крови – йода, бинтов.
Почему-то все это сейчас пришло в голову, хотя он не сумасшедший и тем более не ребенок.
Может, Рерих виноват?
…В партизанские времена его работы вызывали прилив синевы к глазам.
И вопрос звучал так: если город приводит к женщине, то к кому приведет пустыня?
Но – она еще только появилась.
– Откуда я знала. Вижу: увязался какой-то…
– К тебе часто приставали?
– Иногда.
– Кто? где?
– Ну, в отделах кадров…
– Заплывшие жиром отставники? которым ты в дочки годишься?
– Я не знаю, отставники или нет, но не обязательно заплывшие. Ну, один был в военной рубашке.
– Окопались в отделах кадров, тараканы.
– Не любишь военных?
– Недавно у почтамта увидел дерево. Над ним облако. Черные шершавые ветви тянутся к небесной легчайшей белой глине. Меня как будто током ударило… Вот извечные скрижали. И надо только это понять. Что это значит?.. Но слышу обрывок разговора, мужчина и женщина обсуждают проблему своей то ли родственницы, то ли сотрудницы: у нее сын пропал без вести, “выполняя интернациональный долг”. Я мгновенно подумал, что если бы писал это дерево, то с кроной в крови.
– Кошмар.
– А они действуют так, словно все уже ясно, словно мир ничего не стоит, ни мир, ни чья-то жизнь. Да, дерево в крови. Как будто пук нервов, костей.
– Брр.
– Послушай, а как ты собираешься… я где-то читал, что у рыжих низкий болевой порог… Может, тебя поэтому и отсеяли.
– Так ты экспериментируешь надо мной?
– Ты сама спросила.
– Я срезалась… просто была дурой, самонадеянной девчонкой… Что смешного?
– Сколько тебе уже лет?
– Девятнадцать. Поздно пришлось пойти в школу из-за гланд. А так было бы еще восемнадцать или даже семнадцать.
– Я еще служил бы в штабе.
– А?
– Если откинуть год. Рисовал бы Три Бороды и вечного человека с ружьем под вопли с плаца: р-рав…
Тут же последовал удар в стену.
– Войдите!
– Тшш, перестань.
– Но кто-то бьет копытом.
В стену снова ударили с злобной силой. Девушка выскользнула из-под одеяла, ее тело смутно забелело в темноте, он тоже поднялся, сел на диване и прошептал, что сейчас включит свет. Она схватила одежду и принялась торопливо одеваться. Вышла. Он последовал за ней.
В кухне яркий свет испускала голая лампочка на витом шнуре в паутине и пыли.
Девушка застегивала шерстяную кофту. Он подошел сзади, обнял ее.
– Я больше не буду. Не сердись. Давай чай пить.
– Ты же знаешь.
– А почему бы не перетащить диван сюда?
– Холодильник гудит. Титан.
Она наливала черпаком воду из ведра в чайник. Титан питался газом, разогревал воду и гнал ее по трубам и батареям. Через равные промежутки времени перышко газовой горелки воспламеняло всю пасть с легким взрывом.
– А жаль, что нет деревенской печки, камелька поэтического. “И друг поэзии нетленной в печи березовый огонь”.
– Ну уж нет, одни мучения.
Она открыла дверцу железного умывальника и опрокинула в ржавое ведро спитую заварку, та бултыхнулась, обрызгав чайник. Девушка принялась брезгливо мыть чайник с отбитым носиком и бледно-розовым цветком на боку. Вытерла его полотенцем, поставила на стол.
– Ты никогда не угорал?.. А мы с сестрой однажды угорели. В бане.
Мама пришла проверить – что так долго? А мы лежим. Примчалась медсестра, стала нас колошматить, обливать холодной водой, приказала водить нас по двору, мы как куклы, еле ноги передвигаем, тошнотища, голова трещит. – Она достала хлеб, сахар, масло. – Медсестра по соседству жила, Анфиса. Светло-русая, брови, ресницы черные, глаза густо-синие. Красивая, но почему-то незамужняя. Ее все боялись, у нее был опыт войны. Если диагноз поставила Анфиса – ни один врач перечить не станет. Ей верили больше, чем любому дипломированному врачу. Перед ее приходом хозяйки все чистили, мужчины предпочитали куда-нибудь убраться. Отец бородку подстригал. Она не любила бородатых, считала, что волосы на лице негигиеничны и вообще признак дикости. Отец возражал: ну а ваш Сталин? Она была сталинистка. А отец – побывал в плену.
– У кого?
Девушка насыпала заварку в чистый чайник, залила ее кипятком.
Взглянула удивленно:
– У немцев, под Прагой. Месяц или больше. Потом бежал, скрывался у местных. И это ему долго помнили… Он был в нее влюблен.
– В кого?
– В сталинистку, хотя они всегда спорили. Ну, не знаю… Просто так показалось… Я боюсь, что однажды он сюда нагрянет.
– Возьми и все напиши, – сказал он, пододвигая чашку с чаем, намазывая масло на хлеб.
Она помрачнела.
– Нет, нет. Папа сложный человек… и вообще… Нет.
Титан ощерился газовой пастью.
После чая он курил на крыльце, слушая собачий брех, железное ворчание промышленной зоны из-за реки – сейчас запертой льдом, хотя нет, посередине чернела вода, теплые стоки лед съедали, – гудки поездов и резкие голоса диспетчеров, вездесущих, словно духи, клубящиеся в морозном дыме.
Она работала почтальоном, удалось устроиться временно. От родителей приходили скромные переводы, едва хватало на жизнь. Но о возвращении не могло быть и речи. Тогда уж меня точно затянет в ил. Так думала она. Она ненавидела…ин, ненавидела глушь и хотела жить в большом городе; с детства собирала открытки больших городов и путеводители по ним, вышептывая с наслаждением: Градчаны, Карлов мост, Уэст-Энд,
Сан-Марко, Форум, пьяцца дель Пополо, – и, отрывая взгляд от открыток, видела за окном заборы, улицу с асфальтом, разбитым громом-морозом и гусеницами тракторов, одноэтажные пыльные дома с цветочными горшками в окнах и бледными старушечьими лицами или с дремлющими жирными кошками; дальше – плакучие ивы речки, то и дело выносившей какого-нибудь навечно хмельного рыбаря в громадных гирях-броднях или запутавшуюся в кувшинках вздутую овцу; над домами пыхтела труба единственного завода; на площади сиротливо возвышалась фигура вождя, указывающего еще куда-то дальше – в туманные серые, сирые поля и угрюмые черно-еловые перелески, на горизонте сливающиеся с бесконечными уже лесами… Она чувствовала себя в
…ине чужой, тем более со своим необычным именем, которое ей почему-то дал отец. И Глинск ей показался Багдадом. Здесь, конечно, было здорово. Хотя и жила она в страхе, ведь в любой момент мог заявиться участковый и потребовать документы. Это называется: жить на птичьих правах. Или даже хуже, думала она, глядя в окно на тополя с галочьими и вороньими гнездами вдоль реки и вокруг разваливающейся церкви. Охлопков утверждал, что этот пейзаж вгоняет его в тоску и воодушевляет – на мечтания о солнце Туркмении. Иногда он оставался в доме, пока Ирма разносила почту, и лежал на диване, сунув под голову подушку, курившуюся слабым ароматом ее волос, и смотрел в окно на падающий снег, на прилетающих в сад снегирей.
Она опасалась, что в это-то время и нагрянет хозяйка, Раиса
Дмитриевна, и обнаружит в своем доме чужого человека. Ну, не крокодила же, отвечал он.
Она спешила покончить с письмами и газетами и торопливо возвращалась в овраг, открывала калитку, стараясь угадать по следам на снегу, была ли хозяйка, – хотя та в первой половине дня никогда не приходила, любила поспать или где-то работала, неизвестно, – спускалась к крыльцу и видела в окне Охлопкова в сером свитере, приветственно поднимавшего дымящуюся чашку чая. Все страхи отпускали, мгновенное тепло окутывало горло, и что-то мягко распускалось в солнечном сплетении.
Постучав сапогом о сапог и сбив снег, она отворяла дверь и оказывалась в кухне с пыхающим титаном и пробулькивающимися батареями. В воздухе витал грубый запах табака, тела, одежды. На нем был колючий свитер, уж она связала бы ему что-нибудь потоньше, помягче – если бы умела. А этот свитер, связанный его матерью, был тяжел, как кольчуга.