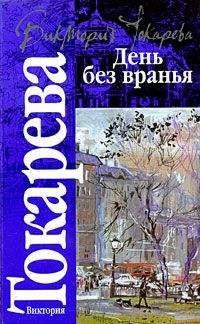Наташа вспомнила: был момент, когда показалось — не справится, сейчас растворится и умрет в нем так, что не соберет снова. Собрала, конечно. Но кусок души все же забыла. Оставила в нем. Интересно, куда он его дел, этот кусочек ее души?
Потом он потушил сигарету и заснул. Она долго лежала рядом и думала, что если каждую ночь засыпать вместе с любимым человеком — сколько дел можно переделать, встав поутру. И каких дел. И как переделать.
Человек во сне заряжается счастьем и, проснувшись, может прорубить вселенную, как ракета…
— Ты пойдешь в психдиспансер?
Наташа вздрогнула. Володя подошел незаметно. Стоял и смотрел на нее с враждебностью — так, что, если она скажет: «Не пойду», он столкнет ее в снег. Захотелось сказать: «Не пойду».
— Вернемся домой, — потребовала она. — Я замерзла.
— А когда пойдешь? — не отставал Володя.
— Ну пойду, пойду. Господи…
Она обошла его и быстро зашагала в сторону дороги.
— Ну почему ты такая? — с отчаянием спросил Володя, идя следом.
— Какая «такая»?
— Ты делаешь только то, что тебе интересно. А если тебе неинтересно… Так же нельзя. Ты же не одна живешь…
«Одна», — подумала Наташа, но промолчала. Она давно жила одна. Когда это началось? С каких пор? Видимо, тогда… Володя клялся, что это чепуха, но сознался, что было. Вот этого делать не следовало. Она с легкостью поверила бы его вранью, но он вылез со своей честностью и раскаянием, и она еще должна была его за это оценить.
Если бы сейчас разобраться поздним числом — действительно ерунда. Но тогда… Тогда была самая настоящая драма — долгая и мучительная, как паралич. И тогда случилась трещина. Чувство не выдержало сильных контрастных температур и треснуло. Они оказались на разных обломках трещины, а потом океан (их жизни) потащил эти разные обломки в разные стороны. И уже сейчас не перескочишь. Не поплыть вместе. Дай Бог увидеть глазом. А в общем — какая разница? Кто виноват? Она или он? Важно то, что сейчас. Сегодня. А сегодня — они банкроты. Их брак — это прогоревшее мероприятие. А прогоревшее мероприятие надо закрывать, и как можно раньше.
А что, если в самом деле — взять и выйти замуж за Мансурова? И родить ему дочку? Тридцать шесть лет — не самое лучшее время для начала жизни. Это не двадцать. И даже не тридцать. Но ведь дальше будет сорок. Потом пятьдесят. Шестьдесят. И этот кусок жизни тоже надо жить. И быть счастливой. Если можно быть счастливой хотя бы неделю — надо брать и эту неделю. А тем более года.
Почему люди так опутаны условностями? Неудобно… Нехорошо… А вот так, с выключенной душой — удобно? Хорошо? Или ей за это орден дадут? Или вторую жизнь подарят? Что? Почему? Почему нельзя развестись с обеспеченным Володей и выйти замуж за нищего Мансурова? Да и что значит обеспеченность? Сейчас все живут примерно одинаково. Разница — квартира из одной комнаты или квартира из пяти комнат? Но это же не двухэтажный особняк. Не дворец. И едят примерно одно. Какая разница — икра или селедка? Кстати, то и другое вредно. Задерживает соли. Галина из отдела заказов, выдавая продукты, говорит так: «Жрать — дело свинячее». И это правда. Человек вообще преувеличивает значение еды и вещей. Разве не важнее ощущение физической легкости и душевного равновесия? А где его обрести? Только возле человека — любимого и любящего. Лежать с ним рядом, курить одну сигарету. И молчать. Или встать на лыжи и рвануть по шелковой лыжне, проветривать кровь кислородом. Или просто — сидеть в одной комнате, смотреть телевизор. Он — в кресле. Она — у его ног. Алка, Алка… Боже мой, что делать? Как трудно жить…
— Ждать? — переспросила бы Алка.
— Жить и ждать. Жить, ожидая…
— А он женат? — поинтересовалась бы Алка.
— Разведен.
— Почему?
— Не говорит. Но, как я догадалась, имело место предательство. Причем не женское. Человеческое.
— Жизнь груба, — сказала бы Алка.
— Груба, — подтвердила бы Наташа. — Поэтому и нужны в ней близкие люди, которые тебя понимают и поддерживают.
— А дети есть?
— Есть. Мальчик.
— Может, помирятся? Все-таки ребенок…
— Я ему так же сказала. Этими же словами. Он ответил: «Она меня предала. Я ее расстрелял и закопал. Что же, я теперь буду разрывать могилу?»
— А простить нельзя?
— Смотря по каким законам судить. Если по законам военного времени, то, наверное, нельзя. (Во всяком случае, до конца — нельзя. А если не до конца — это компромисс. А компромиссы развращают душу.)
— Человек легко прощает свое предательство, но не прощает чужого по отношению к себе.
— Ты что, на стороне жены? — спросила бы Наташа.
— Я всегда на стороне жен.
Какая жена? О чем речь? Вспомнила, как они утром пошли на угол есть шашлык. Красивый мальчик-туркмен сооружал шашлыки прямо на улице, насаживая на шампуры лук и куски мяса, стараясь при этом, чтобы на шампур вперемежку с жилистыми кусками попадались и хорошие, мягкие. Чтобы все было справедливо, а не так: одному все, а другому ничего.
Они с Мансуровым хватали зубами горячие куски мяса, пахнущие углем саксаулового дерева, и смотрели друг на друга, видя и не видя. То есть она уже не видела, как он выглядит объективно, на посторонний глаз. Она видела его сквозь свое знание и тайну.
На нем была панама, какую носят в колониальных войсках. Он надел ее плотно, чуть набок. Он говорил: «Я понимаю, почему у ковбоев все должно быть чуть тесновато. Если надеть широкие штаны и шляпу, которая лезет на уши, — не вскочишь ни на какого мустанга и не поскачешь ни в какие прерии. А пойдешь домой и ляжешь спать».
Он стоял перед ней в тесноватых джинсах, тесноватой шляпе. Маугли-ковбой. Как он видел ее, вернее, какой он ее видел — она не знала. Но ей было очень удобно под его взглядом. Тепло, как дочке. Престижно, как жене короля. И комфортно, как красавице.
Мальчик-туркмен шинковал лук, рассекая его вдоль луковицы. Наташа обычно резала лук поперек. Она спросила:
— А разве так надо резать?
Мансуров вручил ей свой шашлык, взял у мальчика нож, луковицу. Нож удобно застучал о стол, и через несколько секунд взросла горка идеальных, почти прозрачных колечек, сечением в миллиметр.
— Ты умеешь готовить? — удивилась Наташа.
— Я тебе к плите не дам подойти, — ответил Мансуров.
К гостинице должны были подать экскурсионный автобус, но автобуса не было. Стали бродить вокруг гостиницы.
— Расскажи что-нибудь о себе, — попросил Мансуров.
Наташа вдруг сообразила, что они почти не знакомы и ничего друг о друге не знают, кроме того внутреннего знания, которое людей объединяет, или разъединяет, или оставляет равнодушными.
— Что рассказать? — спросила она.
— Что хочешь.
Наташа подумала и выбрала из своей жизни самый грустный кусочек. Хотела пожаловаться. Хотелось, чтобы он понял ее и пожалел.
Она принялась рассказывать о том долгом параличе. Мансуров остановился. Лицо его напряглось и стало неподвижным, будто он одерживал боль. Вдруг приказал:
— Замолчи! Зачем ты это делаешь?
— Что? — не поняла Наташа.
— Зачем ты туда возвращаешься?
— Куда?
— В мученье. Ведь ты уже это прожила. Пережила. А сейчас ты опять себя туда погружаешь. Опять мучаешься. Не смей!
— Но…
— Все! Я не отпускаю тебя. Стой здесь. В этом августе. Возле меня.
Люди шли мимо и оборачивались, хотя Наташа и Мансуров ничего себе не позволяли. Просто стояли и разговаривали. Но чем-то задерживали человеческое внимание. Чем? Тайной прошедшей ночи. Эта тайна останавливала людей, как автомобильная катастрофа. Как пожар. Как венчание при церковном хоре.
Вот так… обвенчаться с фатой и белым венком на волосах, с опущенными глазами. И жить с человеком, который к плите не даст подойти, который не пустит ни в одно тяжкое воспоминание. Жить вместе и служить друг другу чисто и высоко. И ни одного предательства. Ни в чем. Даже в самой мелкой мелочи, в самом пустячном пустяке.
Он, видимо, думал об этом же, потому что сказал:
— Я буду жить только тобой, а ты — мной.
Наташа задумалась.
А потом они потерялись. Пришел автобус. Мансуров куда-то исчез, как умел исчезать и появляться только он один. Стоял — и нет. Как сквозь землю провалился. И уже непонятно: был ли он когда-нибудь вообще и будет ли снова?
Наташа вошла в автобус вместе со всеми и все время нервничала, не понимала — как ей поступить: выйти и ждать Мансурова или ехать со всеми? Обидеться на него или проявить солидарность? Но как можно проявить солидарность с исчезнувшим человеком? Тоже исчезнуть.
Автобус между тем тронулся, и все отправились смотреть восьмое чудо света. Или седьмое. Это не имело значения — какое чудо по счету. Алка… Если бы ты знала… Уму непостижимо. Чьему-то уму, конечно, постижимо. Ученые, наверное, все понимают — как и отчего… Глубоко в земле, вернее в скале — подземное озеро. Спускаешься вниз, как в шахту, и вдруг — среди корней скал опаловое озеро. Вода почти горячая, тридцать семь градусов. И серой пахнет. Как в аду.