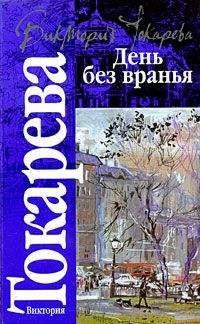Лес был белый, голубой, розовый, сиреневый. Перламутровый.
Наташа мысленно взяла кисти, краски, холст и стала писать. Она продела бы сквозь ветки солнечные лучи, дала бы несколько снежинок, сверкнувших, как камни. А сбоку, совсем сбоку, в углу — маленькую черную скамейку, свободную от снега. Все в красоте и сверкании, только сбоку чье-то одиночество. Потому что зима — это старость. Наташа поставила на лесную тропинку своих самых одаренных учеников: Воронько и Сазонову. Воронько сделал бы холод. Он написал бы воздух стеклянным. А Сазонова выбрала бы изо всего окружающего еловую ветку. Одну только еловую ветку под снегом. Написала бы каждую иголочку. Она работает через деталь. Через подробности. Девочки мыслят иначе, чем мальчики. Они более внимательны и мелочны.
— Ты ходила в психдиспансер? — спросил Володя.
— Отстань, — попросила Наташа.
Они собрались по приглашению поехать в Венгрию, надо было оформить документы и среди прочих — справку из психдиспансера, удостоверяющую, что она, Наташа, на учете не состоит. И за границей не может быть никаких сюрпризов. Все ее реакции адекватны окружающей среде. Наташа ходила в диспансер три раза, и всякий раз неудачно: то рано, то поздно, то обеденный перерыв.
Володино напоминание вырвало Наташу из леса и перенесло в психдиспансер Гагаринского района с унылыми стенами и очередями из осознавших алкоголиков.
— Отстань ты со своим диспансером, — предложила Наташа.
— Ну, с тобой свяжись, — обозлился Володя и как бы в знак протеста обогнал Наташу. Он не любил зависеть от кого-либо, и от жены в том числе.
Наташа посмотрела в его спину. Подумала: «Фактурный мужик». У него был красивый рост, красивая голова, чуть мелкая и сухая — как у белогвардейца, красивые руки, совершенная форма ногтей. Но не было у Наташи таких сил, которые могли бы заставить ее снова полюбить эти руки вместе с формой ногтей.
Когда-то, первые пять лет, до рождения Маргошки, они были влюблены друг в друга так, что не расставались ни на секунду ни днем, ни ночью. Ходили, взявшись за руки, и спали, взявшись за руки, как будто боялись, что их растащат. А сейчас они спят в разных комнатах и между ними стена — в прямом и переносном смысле. Наташа пожалела, что поехала в лес. Дома можно спрятаться: ему — за газеты, ей — за кастрюли.
А здесь не спрячешься. Надо как-то общаться. Были бы сейчас Гусевы — все упростилось. Распределились бы по интересам: Гусев с Володей, Алка с Наташей.
Сначала перемыли бы кости Марьянке. Марьянка вышла замуж за иностранца, шмоток — задавись, и ничего не может продать. Не говоря уже — подарить, хотя могла бы и подарить. Что ей стоит. Но известно: на Западе все считают деньги. И наши, попадая на Запад, очень быстро осваивают капиталистическое сознание, и начинают считать деньги, и даже родным подругам ничего не могут подкинуть, даже за деньги. А как хочется кожаное пальто цвета некрашеного дерева, как хочется быть красивой. Сколько им еще осталось быть красивыми? Пять лет, ну шесть… Хотя десять лет назад они считали так же: тогда они тоже считали, что им осталось пять лет, от силы шесть… Говорят, чем дальше живешь, тем выше поднимается барьер молодости.
Поговорили бы о Елене, которая, по слухам, была у филиппинских целителей и они ее вылечили окончательно и бесповоротно, в то время как все остальные врачи, включая светил, опустили руки. И когда думаешь, что есть филиппинские целители — жить не так страшно. Пусть они на Филиппинах и до этих Филиппин — непонятно как добраться, но все же они есть, эти острова, и целители на них.
Марьяна и Елена — это подруги. Точнее, бывшие подруги. Это дружба. Бывшая дружба. А есть любовь. Алка и Наташа считали одинаково: нет ничего важнее любви. И смысл жизни — в любви. Поэтому всю жизнь человек ищет любовь. Ищет и находит. Или не находит. Или находит и теряет, и, если разобраться, вся музыка, литература и живопись — об этом.
И даже детские рисунки — об этом. Воронько все время рисует деревянные избы со светящимися окнами. Изба в поле. Изба в саду. Зимой. Осенью. И каждый раз кажется, что за этим светящимся окошком живут существа, которые любят друг друга, — мужчина и женщина. Бабушка и внучка. Девочка и кошка. У Воронько лампа тепло светится. И даже если смотреть картину в темноте — лампа светится. На выставке он получил первую премию. Но это уже о другом. Это тоже интересно — выставка. Но главное — Мансуров.
Алка бы спросила:
— А как вы познакомились?
Руководительница выставки подошла и сказала: «Больше никому не говори, местное руководство приглашает на банкет». Почему «не говори» — непонятно. Ну ладно. Стол накрыли за городом, на берегу какого-то водоема. Лягушки не квакают — орут, как коты. В Туркмении вода — редкость. Там пески, пустыни, верблюды. В провинции девушки волосы кефиром мажут. Но это уже о другом. Это тоже безумно интересно — Туркмения. Но главное — Мансуров. Ты знаешь, Алка, я не люблю красивых. Мне кажется, красивые — это не для меня. Слишком опасно. Мне подавай внутреннее содержание. Но сейчас я понимаю, что красота — это какая-то особая субстанция. Торжество природы. Знаешь, когда глаз отдыхает. Даже не отдыхает — поражается. Смотришь и думаешь: не может быть! Так не бывает!
Я подхожу к столу. Он увидел. Встал и пошел навстречу: плечи расправлены, торс играет, как у молодого зверя. А зубы… А выражение… Глаза широко поставлены, как у ахалтекинского коня. Кстати, говорят, что ахалтекинцев не отправляют на бойню. Они умирают своей смертью и их хоронят, как людей. В землю.
Нас водили на конный завод. Каждый конь стоит на аукционе дороже, чем машина «вольво». Еще бы… «Вольво» можно собрать на конвейере, а ахалтекинца собирает природа. Когда я вошла на территорию завода, маленький табун, маленький островок ахалтекинцев, повернул ко мне головы, одни только головы на высокой шее. Огромные глаза по бокам головы. И смотрят. И такое выражение, как будто спрашивают: «А ты кто?» Или: «Тебе чего?» Или: «Ты, случайно, не лошадь?» Да, так вот, Мансуров встал и пошел навстречу — обросший, пластичный, дикий, ступает, как Маугли — получеловек-полуволк. Алка бы спросила:
— Так конь или волк? Это разные звери. Что общего у лошади с собакой?
— Он разный. Не перебивай.
— Ну хорошо. А дальше?
— Дальше он сказал одно только слово: «Лик…»
— Это туркменское слово?
— По-туркменски он не понимает. У него мать русская, а отца нет. Отец, кстати, тоже был наполовину русский.
— А что такое лик?
— Лик — это лицо. Икона.
— Ты? Икона? — удивилась бы Алка и посмотрела на Наташу новыми, мансуровскими глазами, ища в ней приметы святости. — А во что ты была одета?
— В белое платье.
— Которое шведское? — уточнила бы Алка. — Из небеленого полотна?
Он сказал, что в такие одежды в начале века одевались самые бедные крестьяне. Я шла босиком и в самых бедных одеждах. А на шее серебряные колокольчики. На толкучке купила. Между прочим, ашхабадская толкучка… Нет, не между прочим. Это главное. По цвету — поразительно. Женская одежда пятнадцатого века носится до сих пор как повседневная. Одежда пятнадцатого века — не на маскарад, не в этнографический музей, — а утром встает человек. Надел и пошел. Очень удобно. Сочетание цветов выверено веками. Попадаешь на толкучку и как будто проваливаешься в глубь веков — и ничего нет: ни сосуществования двух систем, ни космических полетов. Ничего! Открываются деревянные ворота, и на толкучку выезжает деревянная арба, запряженная ослом. А в ней — старые туркмен и туркменка, лет по пятьсот, в национальных одеждах. Она — с трубкой. И вот так было всегда. Есть. И будет.
— Он сказал: «Лик…» А потом чего? — перебила бы Алка.
— Ничего. Остановился: на, гляди! Белозубый, молодой. Над головой небо. За спиной цветущий куст тамариска. Или саксаула. Мы все время путали: саксаул или аксакал. Хотя саксаул — это дерево, а аксакал — старый человек. Кстати, саксаул тонет в воде.
— Так же как и аксакал, — вставила бы Алка.
— Я не поверила. Бросила тоненькую веточку, и она тут же пошла ко дну.
. — Не отвлекайся, — попросила бы Алка. — Ты все время отвлекаешься.
— А на чем я остановилась?
— Белозубый. Молодой.
Потом-то увидела, что не такой уж молодой. Под сорок. Или над сорок. Усталость уже скопилась в нем, но качественного скачка еще не произошло. Он еще двигался и смеялся, как тридцатилетний. Возраст не читался совершенно. Но это другими не читался. Наташа увидела все. Увидела, что бедный — почти нищий. Нервный — почти сумасшедший. Одинок. И ждет любви. Ее ждет. Наташу. Почти все люди на всей земле ждут любви. И в Швеции, откуда Володя привез платье. И в Туркмении, где выставка детского рисунка. И в Италии, где хорошие режиссеры ставят хорошее кино. И даже в Китае — и там ждут любви. Но, как правило, ждут в обществе своих жен, детей, любовниц. А Мансуров ждет один. И уже с ума сошел, так устал ждать.