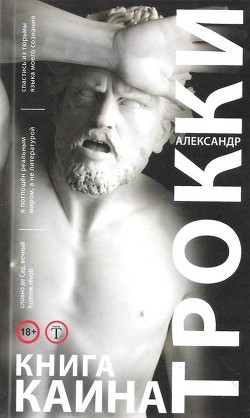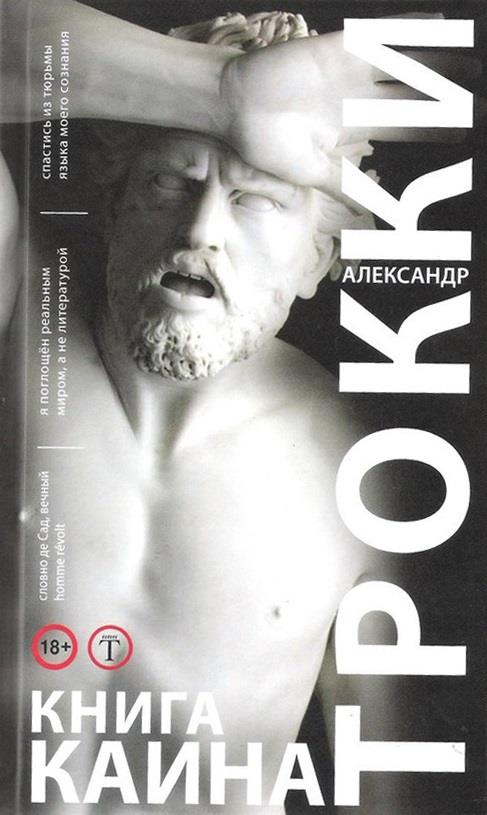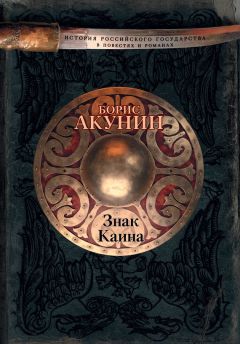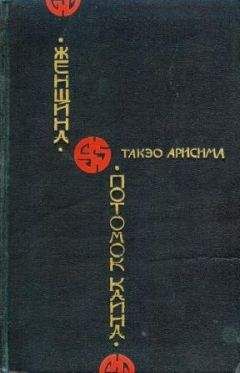Иногда мы поздним вечером предпринимаем недолгие тайные прогулки по закоулкам Гарлема с целью затариться. У Тома есть в Гарлеме хорошие контакты и он любит брать меня с собой. Если не имеешь отношения ни к одному из подпольных объединений враждебного города, то это полезно для твоего морального состояния. В лунном свете, спускаясь по тёмной лестнице, ведущей вниз к парку, я ждал, когда он скажет: «Я пойду первым».
Я знаю, что он даст мне несколько мгновений застолбить право на первенство, и сомневаюсь, был ли он когда-нибудь хоть разубежден, что я так не поступлю, хотя я ему миллион раз повторял, что мне плевать, кто пойдёт первым, раз уж мы зависли на очередной хате, втолковывал, что он у меня в печёнках сидит со своими заявами. Я долго ждал, когда же Том скажет: «Ты иди первым, Джо», но он так этого и не говорил, и сомневаюсь, что когда-нибудь скажет. Я спрашивал у него, почему он так цепляется за этот ритуал. Он отвечал одно и тоже. «Никогда не знаешь, когда нагрянут мусора. Если облава, лучше пускай палево будет при мне». Но это не объясняет всего. Не всегда обязательно быть мышкой, даже если ты джанки в Нью-Йорке. Это своего рода беспорядочное создание напряга в ситуации, которая, Бог свидетель, и без того чересчур напряжная, чем здорово меня бесит.
Если только мне не плохо физически, мне абсолютно наплевать, кому идти первым. Том притворяется, что с ним все по-другому. Он врёт. Никакой крайней необходимости не существует. Притворяться в том, что она есть — значит устраивать истерику перед лицом злобного домысла. Это совсем не то, что истерия, свойственная нам каждый божий день в нашем опасном положении… (спускаешься по лестнице в два часа ночи на пустынную платформу метро на 125-й улице, за тобой идут, как тебе кажется, два неопознанных субъекта… без паники… теперь следят за нами с другого края платформы… если подойдут ближе чем на два ярда, сбрасывай палево.) Именно эта покорность неведению привела к тому, что джанки заклеймили как угрозу обществу.
— Псина, — сказал я, — ты же бешеная псина. Я знаю, как ты играешь. Если я заберу у тебя кость, ты осатанеешь и начнешь кусаться. Кто тебя научил кусаться, а, псина? Ты в курсе, что в этом мире случается с собаками, которые кусаются?
Не знаю, что меня впервые привлекло в Томе. Если только то, что я почувствовал, что его что-то привлекло ко мне. Просто мы встретились, взяли и несколько дней провели ширяясь. Большинству моих друзей, особенно не торчавшим на героине, он не понравился с самого начала, и я часто ловил себя на том, что интеллектуально и эмоционально ощетиниваюсь в его защиту. Временами, после того, как мы вмазались и дунули, ощущая в душе приступ спокойствия, приступ благодушия, я нередко ловил себя на том, что отождествляю себя с ним. Сейчас со мной редко такое бывает, потому что сейчас Том нагоняет на меня тоску, но раньше так случалось, и не один раз. Но постепенно я стал сознавать, что он не думает так, как я думаю, что мои рациональные построения он принимает то слишком, то недостаточно всерьез.
Например, он до сих пор разглагольствует о том, что надо слезать и одновременно отрицает, что он торчок, и все равно в очередной раз соглашается со мной в том, что просто отказ от героина — это уход от проблемы. Дело не в хмуром, если уж переходить на всю эту мелодраматическую болтовню насчет симптомов отнятия. А в бледном всаднике.
Том скажет: «Собираюсь спрыгивать». Я отвечу: «Хуйня». Он дуется и киснет. Подозревает, что я его бросаю одного. У меня такое же подозрение.
Он утверждает, что уже спрыгивал, когда переехал в Лексингтон.
— Верю. А когда вернулся сюда, первым делом двинул в Гарлем закупаться. Том, слезть нельзя. Когда думаешь об этом — значит ты торчок. Бывают разные степени подсадки и физиология здесь ни при чем. Физиология быстро дает о себе знать, и мне кажется, как раз тогда, в техническом смысле слова, ты сидишь. Но с правильными наркотиками можно за несколько дней спрыгнуть. Подсадка, о которой мы говорим, проявляется на уровне физиологии, но интеллектуально: сколько времени ты овощ? Ты завис на лошадке или чего? Твоя проблема, Том, в том как раз, что ты отказываешься от торча. Почти все время бахаешься, морочишься нарыть, и всё время отказываешься, рассусоливаешь про слезание. Не на геру ты подсел. Ты отметеливаешь проблему, когда думаешь в этих терминах. Всё время долдычешь про нарыть и слезть. Говори про нарыть. Забудь про слезать. Вмажься и расслабься. Есть же торчащие врачи, художники, адвокаты. И живут, нормально работают. Американский народ сидит на синьке, а она куда опаснее. Синяк не функционален. Так что, Том, хорош дуплить и вестись на всякую пропаганду. Не хватало нам, чтоб сами джанки на неё велись. Тебе втирают, что это говно и большинство невежественных ублюдков сами же в это верят. Весьма удобное объяснение детской преступности. С кучи народа сразу снимается подозрение, потому что они алкоголики. В наличии всегда есть толпа потасканного вида уродов, которым можно вменить, что они развращают своих детей. Полиции есть, чем заняться, ведь джанки и плановых легко повязать, поскольку они, чтобы добыть свои наркотики, вынуждены слишком часто подставляться. Героиновая полиция производит показательные аресты, адвокаты суетятся, судья толкает речь, большой босс сшибает деньгу, жёлтая пресса продается миллионными тиражами. Наш честный гражданин просто может сидеть и спокойно смотреть, как порок получает по заслугам. Таков мир джанка, мужик. Каждый, кроме джанки чего-нибудь для себя да урвёт. Если повезёт, ему удастся выползти за угол и нарыть дозу. Но не джанк заставляет его ползать. Вот о чём надо трубить во все трубы!
Я часами ему втирал. Но, в конце концов, он опять принимался ныть, что собирается слезать. Потому что выбирать ему, по большому счету, было не из чего. С деньгами по нулям. Чтоб их добыть, ему надо спрыгивать, а черта с два он спрыгнет без денег. И всё равно, как я устал от его бесконечных телег про слезание.
— Я слезать буду.
— Мужик, ты никогда не слезешь. — иногда я даже этого не говорю.
— Ты, ублюдок, я серьёзно.
— Ну, допустим, ты слезешь.
— Ясен хрен. Думаешь, я и дальше так смогу?
— Раньше нормально мог.
— Это не одно и тоже. Тогда у меня всё было плохо. Найду, чем заняться, все на мази. Ты, Джо, мне поможешь. Нам бы только баблосов.
— Сколько ты должен за хату?
— Мало. Всего несколько месяцев.
— А конкретно сколько?
— Месяцев за восемь.
— Ты уже восемь месяцев балду пинаешь? За тобой долг на 320 долларов.
— Я с ним пересекусь, объясню, что всё выплачу. По двадцатке в неделю.
— А двадцатка в неделю откуда?
— Работу найду. С завтрашнего дня завязываю. Слезть дня за три — вполне. Я ж не сильно торчу. Колёс достану? Знаю одного чела, он знает, где их по дешёвке можно взять. С этой хуйней буду кончать; Даже не притронусь к этой дряни.
— Только не разговаривай как алкоголик.
Но это все равно, что требовать от больного детским параличом пробежать сотню ярдов. Без наркоты лицо Тома приобретает неестественное выражение, как будто вместе с действием последней вмазки с него исчезает всё изящество. Он перестаёт быть живым человеком. Для него естественное состояние сознания подобно медленно разрастающейся пустыне в центре его существа. Пустота душит его. Он пытается пить, интересоваться женским полом, вообще жизнью, но в выражении лица появляется что-то жульническое. Единственная тема, дающая ему жизненную силу, это горькое осознание того, что он всегда может снова начать бахаться. Я наблюдал за ним. В начале он более чем уверен в себе. Слишком много смеётся. Но вскоре он резко замолкает и тревожно топчется на грани беседы, словно в надежде, что пустота существования без наркотиков каким-то чудом сама собой заполнится. (Чем ты будешь заниматься весь день, когда не будешь сокращаться в поисках торча?) Он похож на изнывающего от скуки ребёнка, ждущего обещанного утешения, и потом скисающего окончательно. Затем, когда у него на лице начинает читаться презрение, мне становится ясно, он решил идти искать дозу.