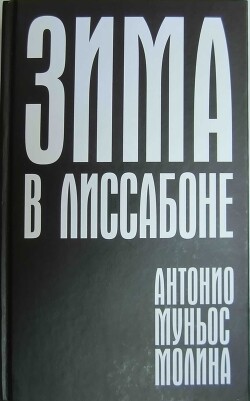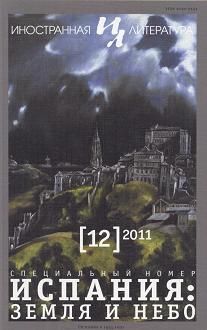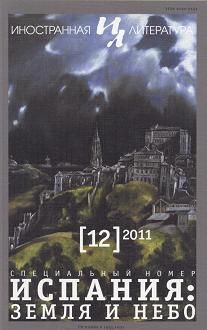— И с тех пор тебе больше писать не хотелось, — сказал Биральбо, улыбкой пытаясь смягчить бесполезную жалобу и укор, которые и сам слышал у себя в голосе.
— Хотелось. Каждый день. — Лукреция откинула волосы назад и не давала им упасть, подперев голову руками у висков. — Каждый день и каждый час я только и думала, как бы написать тебе. И писала — правда, только мысленно. Я рассказывала тебе обо всем, что со мной происходило. Обо всем, даже о самом плохом. Даже о том, о чем я и сама не хотела бы знать. Но ты ведь тоже перестал писать мне…
— После того, как мое письмо вернулось назад.
— Я уехала из Берлина.
— В январе?
— Откуда ты знаешь? — Лукреция улыбнулась. Она крутила в руках то незажженную сигарету, то очки. Во взгляде ее внимательных глаз расстояние было осязаемее и серее, чем в городе, раскиданном на берегу бухты и по холмам в тумане.
— Тогда тебя видел Билли Сван. Вспомни.
— Все-то ты помнишь!.. Меня всегда пугала твоя память.
— Ты не писала мне, что думаешь уйти от Малькольма.
— Я и не думала уходить. Просто однажды утром проснулась и ушла. А он до сих пор не может в это поверить.
— Он все еще в Берлине?
— Думаю, да. — В глазах Лукреции появилась решимость, которую впервые не могли поколебать ни сомнение, ни страх. «Ни жалость», — подумал Биральбо. — Но я о нем с тех пор ничего не слышала.
— И куда ты поехала? — Биральбо было страшно задавать вопросы. Он чувствовал, что скоро достигнет предела, дальше которого пойти не решится. Лукреция молчала, не пытаясь скрыться от его взгляда; она умела отвечать отрицательно, не произнося ни звука и не качая головой, просто пристально посмотрев в лицо.
— Мне хотелось уехать куда угодно, лишь бы там не было его. Его и его приятелей.
— Один из них приезжал сюда, — медленно произнес Биральбо. — Туссен Мортон.
Лукреция едва заметно вздрогнула, но ни взгляд, ни линия тонких розовых губ не изменились. Она быстро оглянулась, будто опасаясь увидеть Туссена Мортона за соседним столиком или за стойкой — улыбающегося в клубах дыма своей неизменной сигары.
— Этим летом, в июле, — продолжал Биральбо. — Он думал, что ты в Сан-Себастьяне. Уверял, что вы были большими друзьями.
— Он никому не друг, даже Малькольму.
— Он был уверен, что мы с тобой живем вместе, — сказал Биральбо печально и стыдливо и тут же спросил другим тоном: — У него дела с Малькольмом?
— Он работает один, с этой своей секретаршей, Дафной. Малькольм был у него только вроде агента. Он всегда был едва ли вполовину так важен, как о себе воображает.
— Он угрожал тебе?
— Малькольм?
— Когда ты сообщила ему, что уходишь.
— Он ничего не сказал. Не поверил. Не мог поверить, что его может бросить женщина. Наверное, до сих пор ждет, что я вернусь.
— Билли Свану показалось, что ты была чем-то напугана, когда пришла к нему.
— Билли Сван много пьет. — Лукреция улыбнулась незнакомой улыбкой: так же, как и манера опорожнять стакан или держать сигарету, это был знак времени, легкой отчужденности, прежней преданности, растраченной впустую. — Ты не представляешь, как я обрадовалась, когда узнала, что он в Берлине. Мне не хотелось слушать его музыку, хотелось только, чтоб он рассказал о тебе.
— Сейчас он в Копенгагене. Звонил на днях, хвастался, что уже полгода не пьет.
— Почему ты не с ним?
— Мне нужно было дождаться тебя.
— Я не собираюсь оставаться в Сан-Себастьяне.
— Я тоже. Теперь меня тут ничто не держит.
— Ты ведь даже не знал, что я собираюсь вернуться.
— Может, ты и не вернулась.
— Я здесь. Я — Лукреция. А ты — Сантьяго Биральбо.
Лукреция вытянула лежавшие на столе руки и коснулась неподвижных пальцев Биральбо. Потом провела по его лицу и волосам, словно чтобы с точностью, на которую не способен взгляд, удостовериться, что это он. Быть может, ею двигала вовсе не нежность, а чувство обоюдного сиротства. Два года спустя, в Лиссабоне, за одну зимнюю ночь и раннее утро Биральбо поймет, что это — единственное, что будет их связывать всегда: не любовь и не воспоминания, а покинутость и уверенность, что они одиноки и что их несложившейся любви нет никакого оправдания.
Лукреция взглянула на часы, но не сказала, что ей пора. Это был чуть ли не единственный жест, который Биральбо узнал, единственный тревожный жест из прошлого, оставшийся неизменным. Но теперь ведь не было Малькольма, не было причин скрываться и торопиться. Лукреция спрятала сигареты и зажигалку, надела очки.
— Ты все еще играешь в «Леди Бёрд»?
— Почти нет. Но, если хочешь, сегодня вечером поиграю. Флоро Блум будет рад тебя видеть. Он часто спрашивал о тебе.
— Я не хочу в «Леди Бёрд», — сказала Лукреция, уже поднявшись и застегивая молнию на куртке. — Не хочу идти никуда, где все будет напоминать о тех временах.
Они не поцеловались на прощание. Как и три года назад, Биральбо смотрел вслед такси, увозящему Лукрецию, но на этот раз она не обернулась, чтобы через заднее стекло поглядеть на него еще немного.
Глава VIII
Он медленно шел обратно к городу, бредя у самой ограды набережной, так что брызги холодной пены долетали до него. Человек в темном пальто и шляпе все стоял на том же самом месте и, видимо, продолжал наблюдать за чайками. Биральбо, ошеломленный, голодный и чуть пьяный, спустился по лестнице у «Аквариума» к рыбачьему порту — ему не давало остановиться душевное смятение, не похожее на ни счастье, ни на горе — то ли предшествовавшее им, то ли не имевшее к этим чувствам никакого отношения, как, например, голод или желание закурить. На ходу он тихонько, себе под нос, насвистывал песню, которая нравилась Лукреции больше других и стала своего рода их паролем и беззастенчивым признанием в любви. Когда Лукреция под руку с Малькольмом входила в «Леди Бёрд», Биральбо начинал наигрывать эту мелодию, но не играл ее полностью, а лишь намекал несколькими нотами, которые несомненно угадывались даже в потоке другой музыки. Теперь он чувствовал, что эта песня перестала трогать его, что она утратила связь с Лукрецией, с прошлым, с ним самим. Ему вспомнились слова, которые как-то сказал Билли Сван: «Мы безразличны музыке. Ей не важны боль и радость, которые нас наполняют, когда мы ее слушаем или играем. Она пользуется нами, как женщина пользуется безразличным ей любовником».
В тот вечер Биральбо собирался поужинать с Лукрецией. «Своди меня в какое-нибудь новое место, — попросила она. — Куда-нибудь, где я никогда не бывала». Это звучало так, будто речь шла не о выборе ресторана, а о поездке в неведомую страну, но Лукреция всегда говорила так — наделяя самые незначительные мелочи привкусом героизма и стремления к невозможному. Он снова увидит ее в девять, а на колокольне церкви Санта-Мария дель Мар только что пробило три. Время для Биральбо снова стало спертым, душным, как воздух в отелях, где три года назад он встречался с Лукрецией и оставался после ее ухода наедине с измятой кроватью и видом на недвижное море — море в Сан-Себастьяне в зимние сумерки издалека походит на полотно школьной доски. Он бродил по галереям, между сваленных в кучи цепей и пустых ящиков из-под рыбы, находя некоторое облегчение в приглушенных серостью неба цветах зданий, в синих фасадах, в зеленых и красных ставнях, в высокой линии черепичных крыш, простиравшихся до самых холмов вдалеке. Ему казалось, будто благодаря возвращению Лукреции он снова может видеть город, ставший почти неразличимым, пока ее не было. Даже тишина, в которой гулко отдавались его шаги, и вновь обретенные запахи порта подтверждали близость Лукреции.
Из его памяти совершенно стерся наш совместный обед в тот день. Мы с Флоро Блумом сидели в одной из таверн старого города. Туда же забрел Биральбо и сел за столик в глубине зала. Мы следили за ним глазами — медленные движения, отсутствующий вид, мокрые волосы. «Ватиканский посол не удостаивает вниманием презренных мирян», — звучно произнес Флоро Блум, повернувшись к не замечавшему нас Биральбо. Тот взял свое пиво и пересел за наш столик, но за весь обед едва ли сказал пару слов. Я уверен, что это было именно в тот день, потому что Биральбо слегка покраснел, когда Флоро спросил, действительно ли он болен: в то утро он звонил в школу, чтобы поговорить с ним, и кто-то — «насквозь благочестивым голосом» — ответил, что дон Сантьяго Биральбо отсутствует по причине плохого самочувствия. «По причине плохого самочувствия, — повторил Флоро Блум. — Сейчас только монашки употребляют такие выражения». Биральбо быстро поел и собрался уходить, извинившись, что не будет пить с нами кофе: якобы он торопится на урок, начинающийся в четыре. Флоро, провожая его взглядом, грустно покачал своей медвежьей головой. «Он, понятное дело, не признаётся, — проговорил он, — но я уверен, эти монашки заставляют его читать молитвы».