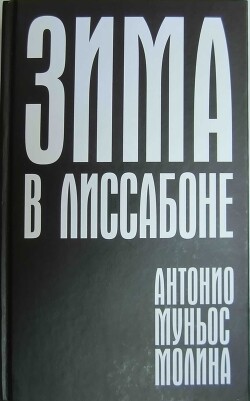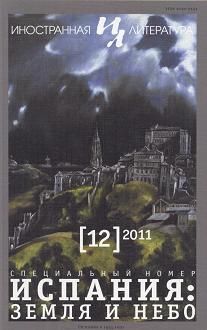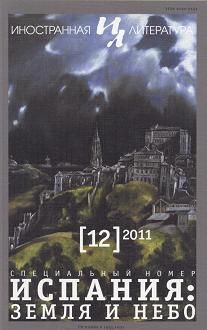— Я поеду с тобой, — сказал Биральбо. — Помнишь? Мы же всегда мечтали вместе уехать в какой-нибудь незнакомый город.
— Но ты так и остался в Сан-Себастьяне.
— Я ждал тебя. Я должен был сдержать слово.
— Так долго не ждут.
— А у меня вот получилось.
— Я тебя об этом никогда не просила.
— Да я и сам не собирался этого делать. Это происходит помимо воли. В конце концов, в последние месяцы я уже думал, что перестал ждать тебя, но, как оказалось, это не так. Я и сейчас все еще жду тебя.
— Не стоит.
— Тогда скажи, зачем ты вернулась.
— Я проездом. Еду в Лиссабон.
Кажется, имена — чуть ли не единственное, что есть в этой истории: Лиссабон и Лукреция, название этой туманной песни, которую я слушаю снова и снова. «Имена, как и музыка, — однажды сказал мне Биральбо с мудростью, накатывающей после третьего или четвертого стакана джина, — вырывают людей и места из времени, создавая чистое настоящее безо всяких ухищрений, одной только тайной своего звучания». Именно поэтому, еще не видев Лиссабона, он смог написать эту песню: город существовал для него до того, как он побывал там, так же, как существует сейчас для меня, никогда там не бывавшего, — розово-охряной в полуденном свете, слегка облачный, сверкающий морской водой, благоухающий звуками своего названия, в котором чувствуется дыхание тьмы — Лиссабон, Lisboa, — и та же тональность, что в имени Лукреции. «Но чтобы добраться до чистых имен, нужно освободиться от всего лишнего, — объяснял Биральбо, — ведь и в них может тайно забиться память. Нужно извести ее полностью, чтобы можно было жить, — говорил он, — чтобы можно было выходить на улицу и идти в кафе, будто ты и в самом деле жив».
После возвращения Лукреции он понял не только это. После той долгой ночи за разговорами и выпивкой он вдруг понял, что потерял все, что у него отняли право жить памятью об ушедшем. Они пили тогда с Лукрецией в неприметных барах, тех самых, куда три года назад ходили, прячась от Малькольма; джин и белое вино позволили возобновить давнишнюю игру, в которой были притворство и ирония, слова, сказанные так, будто их вовсе не произносили, и молчание, рушившееся от одного взгляда или от одновременно пришедшей в голову мысли — тут они переглядывались и заливались хохотом. Лукреция была благодарна за это: благодарность чувствовалась в том, как она почти по-супружески при ходьбе цеплялась за локоть Биральбо и как смотрела на него, когда они молча сидели за стойкой бара. Их всегда спасал смех: они шутили над самими собой с убийственной элегантностью — это было их общей маской, под которой скрывались отчаяние и двойной кошмар, где каждый из них навечно оставался одиноким, обреченным, потерянным.
Они смотрели на город со склона одной из симметричных гор, обрамлявших бухту, спокойную в ночи, как озеро. Они сидели в ресторане, где на столах горели свечи и лежали серебряные приборы, а официанты недвижно ждали в полутьме, скрестив руки на длинных белых передниках. Он, Биральбо, тоже любил такие места, любил бывать в них с Лукрецией, любил полноту времени в каждой минуте и впитывал ее с жадностью человека, у которого впервые оказалось больше времени и денег, чем он когда-либо мог пожелать. Ночь, как и город за окнами, казалось, безраздельно принадлежала ему, горьковатая, темная, не совсем благосклонная, но все же настоящая, почти досягаемая, знакомая и порочная, похожая на лицо Лукреции. Они оба изменились и, приняв это, смотрели друг на друга, словно виделись в первый раз, не разжигая священный огонь, потухший было в разлуке, отвергая ностальгию, потому что было ясно, что за прошедшее время они стали лучше и их верность не была напрасна. Но Биральбо понимал, что все это не в силах спасти его, что жадность взаимного узнавания не исключает суровой неизбежности одиночества, а скорее подтверждает ее, заставляет принять как грустную аксиому. Он подумал: «Я так жажду ее, что уже не могу потерять». И повторил, что поедет с ней в Лиссабон.
— Ты не понимаешь, — сказала Лукреция так ласково, будто свет свечей и полумрак делали ее голос бархатисто-мягким. — Я должна поехать туда одна.
— Там тебя кто-то ждет?
— Нет, но это не важно.
— «Burma» — это название какого-то бара?
— Это тебе Туссен Мортон сказал?
— Нет, он сказал, что ты ушла от Малькольма, потому что все еще меня любишь.
Лукреция смотрела на него сквозь сине-серый дым сигарет — в одно и то же время будто с другого конца света и будто бы изнутри, откуда могла смотреть на саму себя глазами Биральбо.
— Как думаешь, «Леди Бёрд» не закрыли? — спросила она наконец, хотя, быть может, собиралась сказать что-то совсем другое.
— Но ты же не хотела идти туда.
— А теперь захотела. Хочу послушать, как ты играешь.
— У меня дома есть пианино и бурбон.
— Я хочу послушать тебя в «Леди Бёрд». Флоро Блум еще там?
— В такое время — вряд ли. Но у меня есть ключ.
— Отвези меня в «Леди Бёрд».
— Я отвезу тебя в Лиссабон. Когда хочешь — хоть завтра, хоть сегодня ночью. Я брошу работу в школе. Флоро прав: мне приходится водить девочек к мессе.
— Поехали в «Леди Бёрд». Хочу, чтоб ты мне сыграл ту песню — «Все, в чем есть ты».
В два часа ночи они вышли из такси у входа в «Леди Бёрд». Дверь, конечно же, была заперта: мы с Флоро ушли в час, так и не дождавшись Биральбо. Быть может, и Лукреция поддалась шантажу времени. Стоя неподвижно на тротуаре, подняв воротник синего жакета и пытаясь укрыться от мороси, она попросила Биральбо, чтобы он ненадолго зажег неоновую вывеску бара. Вывеска бросала то розовые, то синие отсветы на мокрый асфальт и на лицо Лукреции, в свете фонарей казавшееся совсем бледным.
В темноте бара пахло гаражом, подвалом и табачным дымом. Биральбо с Лукрецией продолжали безнаказанно играть в прошлое, будто на сцене пустого театра. Биральбо наполнил бокалы, настроил свет, посмотрел на Лукрецию со сцены, из-за инструмента. Все происходило решительно и отвлеченно, словно было дистиллировано памятью: он собирался играть, а она, как в те далекие ночи, села слушать его у стойки, только на этот раз вокруг никого не было, будто в расплывчатом воспоминании о каком-нибудь сне.
Они оба родились быть беглецами и потому всегда любили фильмы, музыку и чужие города. Лукреция оперлась на стойку, глотнула виски и попросила, иронизируя над собой, над Биральбо и над тем, что собиралась сказать, но и любя это больше всего на свете:
— Сыграй это снова. Сыграй это снова для меня.
— Сэм, — отозвался он, с улыбкой подыгрывая ей, — Сэмтьяго Биральбо [7].
Он чувствовал холод в пальцах. Он выпил столько, что скорость музыки в голове обрекала руки на неуклюжесть, какая бывает от страха. Перед ним на клавишах, выраставших из полированной черной пасти, лежали две одинокие, словно механические руки, принадлежавшие кому-то другому, а может, и вовсе ничейные. Он осторожно наиграл несколько нот, но не успел набросать узор мелодии. Лукреция подошла к нему с бокалом в руке — туфли на каблуках делали ее фигуру выше, а шаги — медленнее.
— Я всегда играл для тебя, — сказал Биральбо. — Даже когда мы еще не были знакомы. Даже когда ты жила в Берлине и я был уверен, что ты не вернешься. Мне совершенно неинтересна музыка, если ее не слышишь ты.
— Это твоя судьба. — Лукреция продолжала стоять на сцене, рядом с инструментом, недвижная и далекая, в шаге от Биральбо. — Я для тебя только предлог.
Полуприкрыв глаза, чтобы не принимать страшной правды, сквозившей во взгляде Лукреции, Биральбо снова заиграл вступление песни «Все, в чем есть ты», как будто музыка еще могла защитить его или спасти. Но Лукреция продолжала говорить; она подошла ближе и попросила подождать немного. Потом, спокойным жестом положив руку на клавиши, попросила Биральбо взглянуть на нее.
— Ты меня еще не видел, — сказала она. — За все это время так и не захотел посмотреть на меня.
— С тех пор как ты мне позвонила, я только и делал, что смотрел на тебя. Я начал представлять себе еще до того, как увидел.