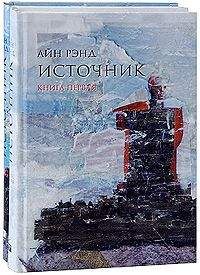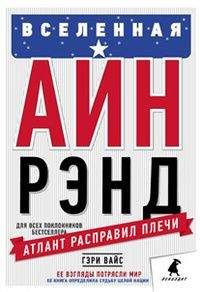Никто не промолвил ни слова. Все почувствовали крепнущие истерические нотки в голосе Митчела Лейтона. Ева Лейтон посмотрела на Тухи, молчаливо умоляя о помощи. Тухи улыбнулся и сделал шаг к Митчелу.
— Мне стыдно за тебя, Митч, — произнёс он.
Гомер Слоттерн чуть не задохнулся. Никто ещё так не упрекал Митчела Лейтона; никто никогда не упрекал Митчела Лейтона.
Нижняя губа Митчела Лейтона почти исчезла.
— Мне стыдно за тебя, Митч, — строго повторил Тухи, — за то, что ты сравниваешь себя с таким презренным человеком, как Гейл Винанд.
Рот Митчела Лейтона размяк, и на его месте возникло нечто похожее на улыбку.
— Это правда, — сказал он послушно.
— Нет, ты не смог бы сделать такую карьеру, как Гейл Винанд. Это не соответствует твоему духу и гуманным инстинктам. Это сдерживает тебя, Митч, а не твой капитал. Кому сейчас нужны деньги? Время денег прошло. Твой внутренний мир слишком благороден для жестокой конкуренции нашей капиталистической системы. Но и она наконец-то уходит в прошлое.
— Это очевидно, — добавила Ева Лейтон.
Было уже поздно, когда Тухи ушёл домой. Он был возбуждён и решил идти пешком. Улицы были мрачны и пустынны, тёмные массы зданий уверенно устремлялись в небо. Он вспомнил, что однажды сказал Доминик: «Сложный механизм, каким является наше общество, можно простым нажатием твоего маленького пальчика на его центр тяжести превратить в кучу обломков…» Он скучал по Доминик. Жаль, что её не было на этой вечеринке.
Неразделённые чувства переполняли его. Он остановился на одной из тихих улиц и, закинув голову назад, громко захохотал, глядя на небоскрёбы.
Полицейский, дотронувшись до его плеча, спросил:
— В чём дело, мистер?
Тухи увидел пуговицы голубого мундира, плотно обтягивающего широкую грудь, бесстрастное лицо, суровое и терпеливое, — этот человек был так же крепок и надёжен, как дома вокруг.
— Исполняете свой долг, констебль? — спросил Тухи. Отголоски смеха ещё слышались в его голосе. — Защищаете закон, порядок, приличие и человеческие жизни? — Полицейский почесал затылок. — Вам следует арестовать меня, констебль.
— Ну ладно, ладно, парень, — сказал полицейский. — Иди давай. Время от времени все мы принимаем лишнего.
Только когда ушёл последний маляр, Питер Китинг почувствовал опустошённость. Он стоял в холле и смотрел на потолок. Под режущим глаз глянцем краски он всё ещё видел очертания проёма, откуда убрали лестничный пролёт, а отверстие замуровали. Старого бюро Гая Франкона больше не существовало. Теперь фирма «Китинг и Дьюмонт» занимала один этаж. Он вспомнил, как впервые поднимался по покрытым пушистым малиновым ковром ступеням этой лестницы, держа кончиками пальцев чертёж.
Он думал о бюро Гая Франкона, о тех четырёх годах, когда оно принадлежало ему одному.
Он знал, что происходило с его фирмой в последние годы; он окончательно понял это, когда люди в комбинезонах убирали лестницу и заделывали отверстие в потолке. Именно этот квадрат под белой краской свидетельствовал, что всё реально и бесповоротно. Он давно уже примирился с мыслью, что всё катится под откос. Это не было его личным выбором — всё произошло само собой, а он не сопротивлялся. Всё было просто и почти безболезненно, как дремота, увлекающая в сон — желанный сон, и не более того. Тупая боль шла от желания понять, почему так случилось.
Одна выставка «Марш столетий» не могла стать причиной. Выставка открылась в мае. Это было фиаско. В чём дело, подумал Китинг, почему не назвать это своим именем? Фиаско. Ужасный провал. «Название этого проекта было бы вполне подходящим, — писал Эллсворт Тухи, — если бы мы приняли точку зрения, что столетия двигались верхом на лошади». Всё остальное написанное об архитектурных достижениях выставки было в том же духе.
С тоскливой горечью Китинг думал о том, как добросовестно они работали — и он, и семеро других архитекторов. Разумеется, он приложил много усилий, чтобы привлечь внимание прессы к собственной персоне, но, конечно же, в работе всё было совсем наоборот. Они работали согласованно, обсуждая вновь и вновь все детали, уступая друг другу, среди них царил дух коллективизма, никто не пытался навязывать свои личные взгляды и интересы. Даже Ралстон Холкомб забыл о Возрождении. Они создали современные здания, самые современные из когда-либо существовавших, более современные, чем витрины универмага Слоттерна. Он не считал, что дома выглядели как «паста, выдавленная из тюбика, на который кто-то случайно наступил», или «стилизованный вариант прямой кишки» — так написал один из критиков.
Но люди, похоже, именно так и думали, если они вообще способны думать. Ему трудно было судить. Он знал только, что билеты на выставку навязывали публике в театрах и что сенсацией выставки, её финансовой палочкой-выручалочкой была некая особа по имени Хуанита Фей, танцевавшая с живым павлином, который был единственным, что прикрывало её тело.
Но разве дело в том, что ярмарка провалилась? Она никак не затронула интересов других архитекторов, входивших в её совет. Гордон Л. Прескотт преуспевал как никогда. Нет, дело не в этом, думал Китинг. Всё началось до ярмарки. Он не мог сказать когда.
Можно было привести много объяснений.
Ощутимый удар всем нанесла депрессия; некоторые в какой-то степени оправились, Китинг и Дьюмонт — нет. С выходом в отставку Гая Франкона что-то ушло и из фирмы, и из тех кругов, в которых фирма черпала клиентов. Китинг понимал, что в творчестве Гая Франкона были не поддававшиеся логике энергия и мастерство, даже если это мастерство заключалось лишь в шарме, а вся энергия была направлена на то, чтобы заманить сбитых с толку миллионеров. Было что-то непонятное, необъяснимое в реакции клиентов на Гая Франкона.
Он не мог найти сколько-нибудь разумного объяснения тому, что привлекает людей сейчас. Лидером в профессии — на среднем уровне, высокого уровня не осталось уже нигде — был Гордон Л. Прескотт, председатель Совета американских строителей, Гордон Л. Прескотт, лектор, читавший лекции об абстрактном прагматизме архитектуры и социальном планировании, любитель положить ноги на стол в гостиной, прийти на официальный обед в бриджах и громко высказывать критические замечания по поводу супа. Представители высшего общества утверждали, что им нравятся архитекторы либералы. Американская гильдия архитекторов всё ещё держалась — упрямо, с чувством оскорблённого достоинства, но к ней уже относились как к богадельне. Все профессиональные проблемы архитекторов решал Совет американских строителей, заявляя под сурдинку, что для людей со стороны эта организация закрыта. Когда в статье, написанной Эллсвортом Тухи, появлялось имя архитектора, это, как правило, было имя Гэса Уэбба. Хотя Китингу было всего тридцать девять лет, уже поговаривали, что он старомоден.
Китинг перестал пытаться что-то понять. Он смутно догадывался, что причины тех изменений, которые захлестнули мир, были такого характера, каких он предпочитал не знать. В юности он с добродушной снисходительностью презирал работы Гая Франкона и Ралстона Холкомба, и подражание им казалось ему не более чем невинным шарлатанством. Он знал, что Гордон Л. Прескотт и Гэс Уэбб олицетворяют такое нагло порочное надувательство, что закрыть на это глаза было выше даже его эластичной совести. Раньше он искренне полагал, что люди считают Холкомба великим архитектором, и не видел ничего зазорного в том, чтобы заимствовать немного этого величия. Сегодня он был уверен, что никто не находит ничего великого у Прескотта. Он ощущал что-то тёмное и злобное в том, как люди говорили о гениальности Прескотта: они будто не воздавали ему должное, а плевали в гения. В этом Китинг не мог следовать за другими; даже ему было ясно, что общественное признание не является более признанием заслуг, а превратилось в постыдное клеймо.
Он ещё держался, но скорее по инерции. Он был уже не в состоянии содержать целый этаж, почти половина помещений которого не использовалась, но сохранял их, доплачивая из собственного кармана. Он должен был держаться. Он потерял большую часть личного состояния в безрассудных биржевых спекуляциях, но у него осталось достаточно средств, чтобы обеспечить себе необходимый комфорт до конца жизни. Это не очень его волновало, деньги перестали быть для него основной заботой. Чего он действительно боялся, так это бездеятельности; его держал в напряжении страх перед завтрашним днём, боязнь лишиться повседневной работы.
Он ходил медленно, сгорбившись, прижав руки к телу, будто преодолевая холодный встречный ветер. Он начал полнеть. Лицо его оплыло, второй подбородок упирался в узел галстука. Намёк на былую привлекательность ещё сохранился в нём, и это ещё больше портило его. Казалось, выразительные черты его лица размазались, расплылись неясными очертаниями — как на промокательной бумаге. Его виски засеребрились сединой. Он часто пил, не испытывая никакого удовольствия.