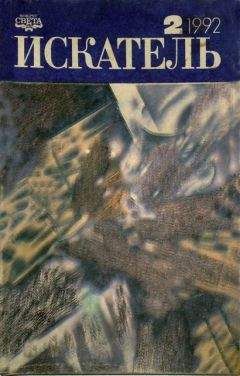Идем несколько часов без остановки, круто на развилке проселка поворачиваем налево (зачем?). Солдаты пробежали вдоль колонны, разбирая строго по десять (зачем?). А, ясно: внизу слева группа офицеров. Почтительно уступают место плотному мужику в сером плаще, рукой отсчитывающему ряды. Победитель упивается. Похоже, это был Манштейн.
Конвойные знали, что пленников нужно быстро убрать в тыл, что они должны обмякнуть от голода, жажды, усталости. Немцев сменили румыны на конях. Ни минуты передышки день, вечер, ночь. Все время открытое поле. С наступлением темноты — фонари-прожекторы вдоль колонны.
Наконец селение. Дадут попить? Ни души. Глухие заборы. Неожиданно поворот, мгновение мы во тьме — отвернули от луча заднего прожектора. Прыгаем с Василием через забор, быстро за домик — везде высокие заборы. По приставной лестнице взлетаем на чердак, прижались по углам. Удалось? Ах, беда! За нами хлынули другие, да столько, что задние засветились. Нагрянули конвойные, всех вымели, внимательно осветили все закутки. Черт возьми!
К утру — стоп! Плюхнули на землю. Стало светать — впереди станция Владиславовка.
По табору бродят солдаты, что-то выискивая... “Вассер!” (Воды!) — обращаюсь к ближнему. Явно не понимает. Э, да хоть форма на них немецкая, но цвет-то темно-зеленый. И железные прутки в руках, а не автоматы.
— Комиссары, жиды — выходите!
Чисто по-русски, хотя смуглые, черноволосые. Татары! Несколько человек вышло, нескольких вытолкали. Неужели среди нас есть предатели? — первое недоумение новичка.
Они копают ямы, становятся на колени и... сваливаются. Как буднично, как дико!
Начинается школа познания плена. Кончился спектакль рыцарства, начинается бесчеловечная трагедия.
Погрузка в эшелоны раздельная — на здоровых и раненых. Тут мы расстаемся — в один я с Василием (он имитировал ранение), а Михаил, Гена и Виктор — здоровые — в другой. Их судьба неизвестна: в институт они не вернулись.
Лагерь “лазарет”, шталаг 345 в г. Смела (Кировоградский). Бараки — хлева для скота, дощатые, со щелями. Главная задача — не выздоравливать, иначе — на этап, в Германию. Черви шевелятся в ране, щекочут. Бывалые говорят — это хорошо, к поправке.
Комендант — полковник Советской армии, бывший офицер еще царского войска, Николаев. Позже — читал — нач. штаба одной из дивизий Власова. Рыскал все вдоль заборов, искал слабое звено. Мы тоже искали, поэтому нередко подозрительно косились друг на друга.
Переводчиком был ассириец — так он себя представлял. Однорукий и злой. Этой руки хватало, чтобы хлестать соотечественников.
Вслед за нами стали прибывать эшелоны из харьковского окружения. Особенно горько было встречать севастопольцев. Покалеченные, в тельняшках, они ползли, стучали кулаками по земле, ругались и плакали: “Нам бы снарядов! Мы бы им дали, сволочам! Теперь издеваются!”
А издевался и “доктор Мирзоев”, через колено “выпрямлявший” согнутые суставы калек, кричавших от боли. “Сталин капут?” — кланялся он немецкому недоумку, капеллану, одетому в солдатскую форму.
Осенью пошли эшелоны из Сталинграда. В одном эшелоне оказался только один живой. Остальных выгрузили, говорят, прямо в братскую могилу. Этот один рассказал: везли четверо суток, не кормили, не поили, большинство померзло. “Мстят, сволочи!”
Меня лагерная вошь свалила в тифозный барак. Провалялся там осень и зиму 42/43 годов. Посреди двухэтажных нар огромного сарая топилась металлическая бочка. У нее сидят “санитары” — переболевшие. Днем у них много работы — идет на потоке замена “новым пополнением” мест, освобождаемых вывезенными в братскую могилу. Позже на ней установят обелиск с цифрой тридцать тысяч.
Холод, голод, крики, бред, мрак.
В полуобмороке галлюцинации; помню, слез со второго этажа нар, крадучись пробрался к далекому огоньку — бочке. “Партизаны! Кавказ! Свобода!” — трепетала душонка.
— Иди на место, партизан! — прикрикнуло злое чудище у костра.
А! Это мне померещилось! Рухнула сказка. Кавказ? Да, эта сказка из счастливого детства, пораженного красотой благодатного края.
Рядом помирал военврач из Одессы. Как он метался ночью, в полный голос клялся в любви жене. Утром его отнесли в яму.
Чувствую, ложка лезет мне в рот, пшенная каша. Кто? Вася. Укрывает шинелькой ноги. “Вечером приду”. Опять провал. Так три месяца. Потом прояснение, постепенное. В марте вышел из барака своим ходом — редкий случай. Василь подхватил, опять каша.
— Слушай, а как же я уцелел в беспамятстве? Баланду-то я не получал.
— Кормил.
— Где брал пшено? Где варил? Как проникал в барак? Ведь все запрещено, карается!
— Выигрывал в карты у тех, кого брали на работы за лагерь. Давай крепчай, будем убегать.
Каков? Сам худющ, глаза воспалены. Как, когда, чем отблагодарю?
Конечно, не мог Вася кормить меня ежедневно все 4 — 5 месяцев тифозного барака. Как же существовал организм, все эти печенки-селезенки, желудок, железки? Почему билось сердце? Что делал мозг? Или произошло тотальное истощение всего второстепенного, а с ним и очищение организма? Отдых? И ведь выдюжили как-то. А мозги не только сохранили прежние знания, но и с жадностью начали поглощать новые. Язык-то немецкий я хватал на лету именно после тифа — из подслушанных разговоров немцев, из обрывков их газет, благо грамматику, с ее правилами и исключениями, суффиксами и префиксами да плюсквамперфектом, нам плотно уложила в головы фрау Маргарита.
А вот еще к характеру крепкого духом и телом Василия. В турецкой бане в Ахалцихе, где стоял наш полк, я увидел поперек его спины штук пять выпуклых багровых рубцов.
— Что это?
— Отчим. Пьяный.
— За что?
— Пацаном закрывал маму.
В первые недели в плену особенно голодно — организм не привык. Проглотили по банке баланды — только раздразнились. Василь крякает, встает с земли, берет котелок, внешне спокойно (это у него получалось как-то колдовски: солдаты, бившие налево и направо увиливающих пленников, не смели тронуть этого медленно и уверенно двигающегося навстречу существа). Так вот, он подходит к проволочной изгороди более чем двухметровой высоты, разделяющей отсеки лагеря, лезет у столба вверх, перекидывает ноги — все не спеша, — спускается с обратной стороны, подходит к раздатчику, подставляет котелок (а раздатчики были свирепы), с наполненным котелком тем же манером — обратно. Ставит котелок передо мной.
— Ешь, ты послабее, а думаешь за обоих.
— Ты что, Вася! Это твое чудо-блюдо! Ты рисковал.
— Ладно, давай вместе. Начинай.
И погиб поэтому. В бане после шахты всегда спешили, отстающих штыком покалывал огромный рыжий детина — конвойный и весело гоготал от своих забав. Василь игнорировал этого идиота. Подчеркнуто неспешно мылся и одевался.
И когда 17.03.45 посыпались бомбы, он сохранил манеру. Он шел медленно сзади шарахнувшихся к выходу. Обрушившиеся стены и потолок не знали магии.
В последнем перед Германией пересыльно-сортировочном лагере в Шепетовке нас, “интеллигенцию”, отсеяли и пропустили через идеологическое сито. Поодиночке. Наблюдаем: очередной спускается в бункер и через несколько минут выходит с другого его конца. Почти все идут направо, единицы налево. Идут своим ходом.
— Пойдем вдвоем. Я покрепче, впереди: может, бьют.
В бункере четверо. Все в штатском. Крепкий мужик только один — бить не будут. Два хлюпика, четвертый совсем юн.
— Кто такие? — ведет концерт крепкий.
— Студенты, — говорит Вася, я сзади молчу, смотрю.
— Какой институт?
— Кораблестроительный.
— Что это? — выступает хлюпик, показывая закорючки на бумажке.
— Тройной интеграл.
— Взять сможешь?
— Нет пределов.
— А тот, что за тобой, тоже?
— Его не трогайте, он отличник.
— Мы хотим сохранить цвет нации, предлагаем идти к нам. — Опять крепкий.
— А кто вы?
— Ну, мы будем прокладывать дороги, восстанавливать разрушенное...
— С немцами?
— Мы восстановим Россию! И Германия нам поможет создать свободную от большевиков страну.
— А совесть?
— Мой папа был честным инженером, а его арестовали, — как-то жалко вступил юнец.