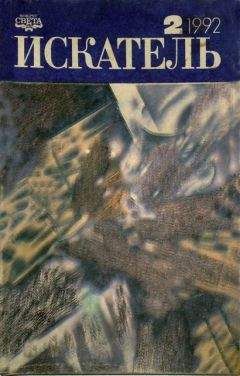— А совесть?
— Мой папа был честным инженером, а его арестовали, — как-то жалко вступил юнец.
— Что ж ты, сволочь, порочишь имя честного отца! — Тут уж сработал мой темперамент.
— С изменниками мы не сотрудничаем, — веско закруглил Вася.
— Сопляки! Вас бы похвалили ваши воспитатели, но никто никогда не узнает этого. Вас сгноят за три месяца в шахте. Идите прочь! Направо!
Тут мы впервые узнали, куда едем.
Следующая сцена опять из серии “самохвальных”. Спали в последний раз на родной земле. Утром загнали в огромный загон, огороженный трехметровой колючкой. Построили к одной стороне. Наверное, тысяча человек. Зашли немцы. Поперек загона сели на табуретки двенадцать из них, в комбинезонах с закатанными рукавами и штанинами поверх сапог. Головы в плотных косынках. Группа офицеров петухами в сторонке. Переводчик кричит:
— Всем раздеться догола, вещи взять в руки и по очереди подходить к сидящим. Если будут обнаружены железные предметы — ножи, стамески — расстрел! Быстро!
Немцы принимают радикальные меры. Ведь что ни эшелон — массовые побеги.
— Спешить не будем. Часам к двенадцати солнышко пригреет, солдатики в своих одежках очумеют. Проносить надо. Ты, Вася, походи по “тылам” — кто-то бросит. Проносить буду я.
Приносит пластину: заточена, шириной сантиметра полтора, толщиной 3 мм, длина 20 см — что надо! Готовились братья славяне!
Засовываю пластину под кожаную накладку заднего шва кирзовых сапог. Да так, чтобы никто не видел.
— Вася, нужен свежий подворотничок.
— Ты что задумал?
— Все будет как надо, не волнуйся.
Вася отрывает полоску бинта. Пришиваю. Ждем. Очередь продвигается медленно — ощупывается каждая тряпка. А тряпки грязные, вшивые. Соловеют солдатики, млеют.
Пора, пошли. Василь следом.
— Пассен зи ауф! Да штэкт айн надель, ум ди фингер нихт цу ферлетцен.
Мутные глаза проверяющего проясняются, брови вздрагивают.
— Лёз! (Давай, проходи!) — подталкивает меня мимо себя как-то даже почтительно, ничего не пощупав.
Василь в восторге:
— Ну ты даешь! Что ты ему сказал?
— Поберегитесь, там торчит иголка, не повредите пальцы.
— Сработало!
Да, сработало, но не помогло. Как только эшелон тронулся, Василь стал долбить канавку по периметру будущего люка. На полсантиметра уже прошел, как вдруг подходят несколько обитателей вагона. Оказалось — все среднеазиаты, колонну которых подвели из другого отсека.
— Прекратите или мы вас зарежем! — показывают ножи. Их-то не обыскивали.
— Так и вы убежите с нами!
— Куда? С нашими лицами мы не скроемся. Да нам и не надо, у нас в Берлине землячество.
Знают откуда-то.
Василь взорвался:
— Сволочи! Предатели!
— Погоди, — говорю. — Ну вы же советские, комсомольцы!
— Немцы расстреляют всех, кто остался в вагоне.
Да, то была жестокая правда.
— Если будет проверка, мы скажем, что резали вы.
— Я сам скажу, шкуры вы, изменники! — бушевал Вася. Засыпали шов пылью.
Состав медленно вползает в ворота концлагеря в Польше. Смотревшие в затянутое колючкой окно, как-то вдруг помрачнев, оседали.
Повидавшие уже, кажется, все и привыкшие ко всему, мы захлебнулись. Не обоз телег, заваленных в беспорядке голыми высохшими телами, двигавшийся нам навстречу вдоль состава, потряс — это, так сказать, обычная картина. Мы вдруг почувствовали себя участниками Страшного Суда. Тысячи — сколько видит глаз — скелетов, покрытых тряпьем, валяются в разных позах на земле у бараков и смотрят. Скелеты смотрят и молчат. Ни стонов, ни жалоб, ни общения. Духовная смерть уже была, наступает телесная, персонально каждого.
Быстро раздали баланду. Повезли дальше. Уготовано что-то другое. А это осталось на память еще одной фотографией фашизма. Позора, трагедии, несчастья немецкого плена.
Так мы оказались в Германии.
От места выгрузки колонна идет по какой-то загородной свалке. На буграх — пацаны, швыряют в нас камни. “Правильно делают”. Кричу конвою, что это запрещено международным правом. Солдаты прогнали пацанов.
Гемер — название города и лагеря в нем.
Здесь нас не кормили особенно долго. Видно, это был искусственный отбор. Карантин очередной. Выявлялись слабые, чтобы не впускать их дальше в рейх.
Дня через два вывели на травянистую полянку. Велели перекатить большие камни с одного конца площадки на другой. Когда, тужась, закончили, последовала команда катить обратно. Ребята стали возмущаться: труд должен иметь смысл, цель. Вокруг поляны — крутое возвышение, там стоят автоматчики. Появляется щеголеватый офицерик, впрочем, все они щеголеватые, а этот еще и пухленький, розовенький, так и светится высшей расой. Кричит сверху:
— Мы вас научим работать, русские свиньи!
Видно, это эстрадное выступление рассчитано на своих солдат, эти там внизу все равно ничего не поймут. Загораюсь злобой, полез вверх к этому тыловому вояке:
— Я тебе дам, русские свиньи!
Вася — сразу за мной: — Что задумал, не надо!
— Работа — это труд, имеющий смысл, а это — издевательство! — кричу. — Мы два дня не ели! А работать мы умеем: кто построил Днепрогэс, Магнитку, Харьковский тракторный!
Лейтенант не ожидал отпора. Но терять лицо перед солдатами нельзя, тем более что их привлек этот диалог. Он еще покричал и быстро ушел, нас вернули в казарму.
Через две недели — вагон, “дальше в лес”. В затянутое колючкой окно видны зеленые холмы, лески. Вот десятка три совершенно одинаковых домика с двориками и сарайчиками, из которых хозяева выкатили свои драгоценные кто мотоцикл, кто лодку, кто трехколесный “фольксваген”. Мужики моют, протирают, подкрашивают.
Утром эшелон загнали в тупик. Открылись ворота.
— Лёз шнелль, дафай бистро!
Лес! Солнце! Перрон чистенький, вдали старик с метлой в фартуке. Жизнь! Тишина, при-ро-да!
Построились, пошли лесной дорогой. Вот стоит бетонное распятие. А вот молочные бидоны у дороги, вдали добротный дом... Как славно пахнет хвоя...
Круто сворачиваем вправо, и... конец миражам. Высокие железные ворота с роковым принуждающим, безысходным, библейским “Jedem das Seine” — “Каждому свое”. Порядок! За воротами — огромный, до горизонта — город бараков, строго одинаковых, строго в линию, каждый огражден колючкой. Очередное ожидание судьбы, тоска и голод. “Живой останусь — придумаю аппарат перегонки земли во что-нибудь съестное”.
А вот под песню “Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет” — марширует колонна. Что за кощунство? Из соседнего барака объясняют: это штрафники-коммунисты. Их заставляют, на посрамление.
Это был, как я узнал позже из литературы, шталаг 326 (VI K) Зенне. Ученые ФРГ Otto R. Weischner и U. Herbert сообщают, что этот шталаг с 1942 г. выполнял функции пересыльного лагеря для рурской горной промышленности. В начале 1944 г. в горной промышленности трудились 184 764 советских военнопленных, и в первой половине 1944 г. из них умерло 32 236.
Через неделю — регистрация. Старики — видно, русские эмигранты — за столами с большими амбарными книгами. Записывают. Комсомолец? Да. Значки есть? Все четыре. Как оказался здесь? Путешествую. Учет, порядок!
2 августа 1943-го. Человек 40 у ворот лагеря 552 R, г. Марль-Гюльс. Приехали. Конечная точка. Ворота распахнулись, и вот очередное пополнение на смену выбывших — умерших, заболевших, истощенных. Цепко оцениваем обстановку: бараков штук 12 по овалу, за ними проволочная ограда с козырьком, 2 вышки с пулеметами. За забором болотце, дальше пустырь, потом редкий лесок. Что ж, неплохо.
В каждом бараке 4 отсека по 48 человек на трехэтажных нарах. 2 санузла, гм, просторных, чистых, есть вода. В котле во дворе дожидается баланда. Орднунг (Порядок).
А как местные жители? Худые, бледные, злые — ночная смена готовится в шахту.
Хочется узнать, страшно ли? Нет, стыдно, по-детски. “Позови маму вытереть сопли”.
Наш отсек пуст, все в шахте на утренней смене. Полицай из наших. Сытый парень, объясняет: в 5 утра подъем, еда, строиться. Миски и ложки — на лежаках. Колодки и одежду, когда износятся, смените вон в той каптерке. Тишина и дисциплина! Работать с немцами-напарниками, слушать и исполнять. Нарушителей наказываем — ясно?