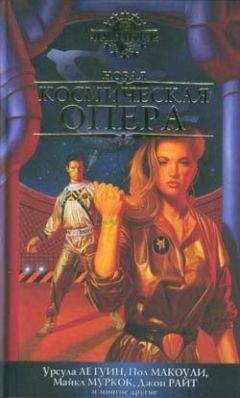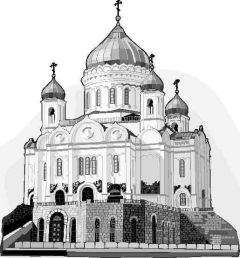Намерению его, однако, не суждено было исполниться, и тому виной оказались две причины.
Первая заключалась в том, что в кладбищенские ворота медленно вошла девушка с четным числом белых гвоздик в руках, и Сергей Павлович, даже не разглядев ее, всем вздрогнувшим и похолодевшим сердцем понял, что это Аня, и засмеялся от охватившей его радости.
Он понял вдруг, что ждал ее прихода.
Лицо его просияло.
Обратившись к девице в кудельках и указав ей на Аню, Людмила Донатовна презрительно пожала плечами.
Он понял также, что убитый дедушка Петр Иванович Боголюбов не в обиде на внука за этот радостный смех; напротив, теплеет и отогревается и его застывшее в могиле сердце.
Вторая же причина была совершенно иного свойства.
«Позвольте, – услышал Сергей Павлович властный голос приехавшего в начальственном автомобиле Ямщикова. – Нельзя же так, в самом деле. Во всем следует соблюдать. Нет желающих открыть траурный митинг? Нет. Тогда я. Позвольте, – еще раз произнес он, брезгливо отодвигая в сторону Павла Петровича. – Что за гадость вы тут пили? Дышать невозможно». Папа побагровел и затрясся. «Товарищи! – не обратив на него ни малейшего внимания, с хамской бодростью произнес Ямщиков. – Друзья! Скончавшийся в результате трагической ошибки мой брат был патриотом нашего великого советского Отечества. Не будучи материалистом и диалектиком, а будучи скорее законченным и убежденным идеалистом, что в конечном счете оказало на него определяющее влияние при выборе… э-э… рода, так сказать, деятельности, он тем не менее знал, что история, по верному замечанию одного из наших классиков, даже и отчасти не напоминает асфальт Невского проспекта или улицы Горького. В последние годы стало модно говорить о каком-то будто бы насилии со стороны государства, к невинным жертвам которого весьма произвольно причисляют и моего брата. Да, если хотите, он был жертвой. Но жертвой в глубинном и высшем смысле добровольной! Его кончина – ярчайший пример самопожертвования ради общественного блага, ради спокойствия и мира в России, которую он беззаветно любил и которой был предан до последнего вздоха. Друзья! Это непросто объяснить и еще труднее понять…»
Но тут папа, страшным голосом крикнув: «Сволочь ты!», кинулся на родного дядю с кулаками. Сергей Павлович едва успел перехватить его, в свою очередь крикнув Ямщикову, чтобы тот убирался ко всем чертям со своими подлыми речами. «А! Внучатый племянничек!» – угадал волкодав, щерясь и показывая крупные желтые зубы. Между тем, его очевидная и кощунственная ложь вопреки здравому смыслу кое-кому пришлась по вкусу. «Не мешайте говорить!» – сложив ладони рупором и надсаживаясь до красных пятен на татарских скулах, орал «козлик». И Ангелина, с позволения Людмилы Донатовны хлебнув из бумажного стаканчика, заодно с мужем выступила в поддержку Ямщикова. «Он прав! Не дурите народ сказками о репрессиях! Не оскверняйте память добровольных мучеников за православие и Россию!» Друг Макарцев, указывая на Ямщикова, что-то с жаром говорил уже принявшим, но еще соображающим коллегам-докторам. Сергей Павлович явственно услышал слово: «сука», вылетевшее среди прочих из уст Макарцева. Зиновий Германович обмахивался березовым веником и растерянно озирался. Известная Сергею Павловичу до мельчайших подробностей души и тела женщина близоруко щурилась и рылась в сумочке в тщетном стремлении найти забытые дома очки. Повзрослевшая дочь (давно не видел) зевала, благовоспитанно прикрывая рот ладонью с перстеньками, блеснувшими на трех пальцах: указательном, среднем и безымянном. Бертольд, оставив жену, а Сонечке велев погулять с Басей, увлекал роскошную Люсю к ограде, в тень раскинувшихся там старых берез, приговаривая при этом: «А на кладбище все спокойненько…» Последний друг Людмилы Донатовны с мрачным видом наливал ей вермут, а друг самый первый вкрадчивыми шагами старого хищника подбирался к Ане.
Обремененный повисшим на его руках папой, которого он удерживал от позорного падения, Сергей Павлович не мог двинуться с места. Наконец он догадался окликнуть Макарцева. Тот подбежал. Передав ему тело Павла Петровича и выслушав навеянные речью Ямщикова строчки: «Ужель нам снова суждено из общей миски есть говно?», Сергей Павлович догнал покидавшую кладбище Аню.
Некоторое время он молча шел рядом с ней, потом осторожно притронулся к ее плечу. «Аня…» – «Как это все… ужасно», – с неожиданной силой сказала она. «Знаете, – заговорил он, торопясь, пропуская слова, перескакивая от одной мысли к другой, но со счастливой уверенностью, что она все поймет и что ей можно доверить даже то, чего он не решился бы сказать никому, даже другу Макарцеву, – я думал раньше, что для меня в нашей жизни уже никаких загадок нет, не осталось. Ну, точнее, почти никаких, – поспешно добавил Сергей Павлович, уловив мгновенно потянувший от нее холодок. – Я доктор и я на «Скорой» работаю, понимаете? Нас хотя и вызывают, но мы гости скорее незваные, к нам не готовятся. Нас ведь не люди зовут, а их страдания. И я, когда приезжаю, вижу человека незащищенного, без костюма и галстука, без этого чудовищного набора мертвых слов. Он совершенно голый, понимаете?» Она кивнула: «Понимаю». – «Боль всех равняет, – продолжал Сергей Павлович. – Ты беден – и ты кричишь; ты богат – и ты тоже кричишь. В страдании есть какой-то еще невнятный социальный смысл. Ты болен, ты страдаешь – и, значит, у тебя отняты преимущества должности, состояния и даже ума. Насчет свободы ничего не скажу, по поводу братства – тоже, но равенство присутствует. – Он потер лоб. – Но я не только об этом… Да! Так вот: я полагал, что все в жизни я уже понял, все про нее знаю, и мне даже скучно стало. Как человек рождается – знаю. Как болеет – знаю. И как умирает – тоже знаю. Очень простая гамма. Такой, знаете ли, чижик-пыжик. Да и собственная моя жизнь… Об этом потом, – оборвал себя Сергей Павлович. – Но некоторые события самого последнего времени… Одно со мной в «Ключах» произошло, я вам о нем как-нибудь обязательно расскажу… Пока коротко. Два слова, чтобы вы поняли связь. Там… после этих посиделок… мне до сих пор сквозь землю хочется провалиться, правда!.. наутро я в лес отправился, заблудился, угодил в болото и едва не утоп. Еле вылез. Сапог в болоте оставил и о нем жалел. Я выбрался, уснул – и тут меня кто-то позвал. Смешно, но я тогда подумал, что это вы меня зовете. А это один старик ко мне пришел. Чудесный старик. И говорил со мной, и я его слышал и видел совершенно ясно, хотя было уже темно. От него…»
Тут Сергей Павлович запнулся и испытующе взглянул на Аню. Ни тени насмешливого недоверия не увидел он на ее лице и с облегченным вздохом продолжил: «…шел свет. И весь он был… не такой, – трудно выговорил он, стыдясь бедности своих слов. – Затем, когда я домой вернулся… я вас тогда на остановке встретил, помните? – мне отец дал прочесть письмо и две записочки от своего отца, моего деда, Петра Ивановича. Он из тюрьмы писал. Последняя записочка уже перед самой смертью им отправлена. Перед расстрелом. Перед казнью, – задохнувшись от скорби и ненависти, едва вымолвил Сергей Павлович. – Он священник был, мой дед. И не отрекся. И его за это убили. Так вот, я думаю… – медленно произносил далее младший Боголюбов, – теперь думаю, что мои представления о жизни были чрезвычайно поверхностны. Что там, – указал он на высокое, легкое и радостное небо, – существует другая жизнь, в которой они встретились – мой старик чудесный и мой дед убитый. И оба они пытаются меня спасти. Однажды уже спасли… Но это не главное спасение, о каком они для меня пекутся. Я пока не знаю… Но не только меня. Всех! Всю Россию, всех людей ее они хотят спасти. У них там, – он снова указал рукой вверх, – такая задача. Им за нас страшно. Они видят человека – такого слабого, такого жалкого, беспомощного в своих болезнях, мелкого в своих желаниях, такого смертного! – воскликнул Сергей Павлович, – и ненавистью уязвленного. Нас спасать надо от нас самих. Что ж, – вздрогнув, вдруг сказал он, – или все зря? Все впустую? Напрасно? Деда убили, а Ямщиков лжет над его могилой пустой? И так будет и впредь? – Он остановился и беспомощно пожал плечами. – Я понять не могу, не в состоянии… Не знаю, что делать».
И тут Сергей Павлович странное слово от Ани услышал.
«Верить», – сказала она.
«Верить?! – вскричал он. – Но во что? В кого мне верить?!»
– Сергей! – звал его из соседней комнаты папа. – Ну, ты прочел?
Ночью о. Петр Боголюбов проснулся от духоты.
Откинув тяжелое одеяло и отодвинувшись от жены, которая спала, прижавшись к нему, он лежал, остывая.
Для отца с вечера топил сильно, не жалея дров.
С осени остались нерасколотыми три крепких, будто железных, дубовых чурбака, и он вчера бился с ними, как с псами-рыцарями на Чудском озере, с яростной силой круша противника тяжелым колуном.