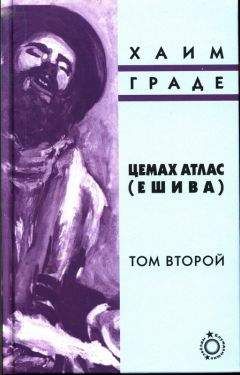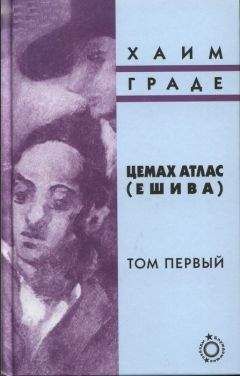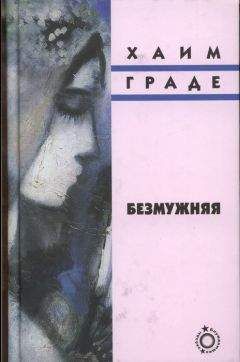Глава 2
В субботу утешения[41] утром из деревни Декшня в Валкеники шли молиться два десятка евреев. На них были залатанные будничные талесы, высокие суконные шапки, поношенные сюртуки и тяжелые сапоги, покрытые серой пылью. Сколько эти деревенские евреи ни подтягивали ремни, брюки все равно сваливались с их худых бедер. Их жидкие сивые бороды были похожи на тощие колоски на декшнинских хлебных полях, полных камней и пересохших комков земли. Их печальные лица морщились от повседневных забот, тоска затемняла их глаза в это светлое утро субботы «Нахаму». Тощая земля, которую русский император Николай I распределил среди их дедов, высасывала костный мозг и у внуков. Сколько они ни трудились на полях, хлеба до нового урожая не хватало, картошки и свеклы тоже не хватало на зиму. Поэтому колонисты валили деревья в лесу и перевозили на тележках большие толстые стволы на картонную фабрику. Они испытывали свое счастье и в разведении пчел для продажи меда. Однако основной доход каждой семье давал душевнобольной квартирант.
Декшнинские пациенты были тихими и погруженными в депрессию. Они происходили из состоятельных семей, вносивших за них ежемесячную плату. Иные находились в Декшне больше трех десятков лет. Если в деревню приезжал чужак, каждый безумец стремился задержать его в каком-нибудь тихом уголке. Один рассказывал ему, как жена и дети хотели его отравить, другой спрашивал, безумен ли еще весь мир. Однако гости в Декшню забредали редко, а на своих квартирных хозяев эти жильцы больше даже не оглядывались. Они улыбались и разговаривали сами с собой, размахивая руками. Вышагивали в задумчивости по длинной деревенской улице, сидели на кучах навоза рядом с конюшнями и стойлами, на ступеньках домов и жутко гримасничали, пока ночь не укрывала их темнотой. С того времени, когда они еще были такими же, как все остальные люди, в затемненной памяти помешанных жил один час, светлый, как полоска неба на горизонте, когда земля и небо уже стали одним слитком тьмы. Понемногу в памяти больных гасло и это единственное светлое пятно. Они ощущали, как в их тело вползает ночь, волосатый мокрый зверь, и издавали вопль страха. Второй крик бывал еще испуганнее и безумнее. В третий раз крик сопровождался скрежетом зубов, и таким кошмарным ломающимся и крошащимся смехом, словно у смеющегося разваливался мозг. Опустошенные воплями, они оставались сидеть, пронизанные насквозь страхом, задыхаясь и дрожа, пока не застывали, заснув. Не раз случалось так, что хозяин находил своего квартиранта утром застывшим навеки, как жук, замерзший ночью. Тогда деревенский еврей оставался стоять столбом, думая о родственниках пациента, которые обрадуются, что не надо больше платить. О своей собственной семье деревенский еврей тоже думал. Он думал о том, что, пока найдет нового квартиранта, ему и его домашним придется настрадаться.
Хотя в Декшне была собственная маленькая синагога, колонисты ходили по праздникам и важным субботам молиться в Валкеники. Они хотели хоть на пару часов вырваться из своей печальной деревни. Поэтому и в честь субботы «Нахаму» они пришли в местечковую синагогу и расселись у западной стены. На этот раз декшнинские евреи напрасно ожидали услышать сладостную мелодию молитвы и канторские рулады. В синагоге было шумно, разговаривали на всех скамьях, где сидели обыватели, а резник Юдл, ведший молитву, явно торопился. Чем больше людей входило в синагогу, тем сильнее становился шум. К чтению «Шма» всё кипело, как на ярмарке; когда дошли до тихой молитвы «Шмоне эсре», не помогло и хлопанье по стендерам с требованием тишины. Только к чтению Торы стало немного спокойнее. Молодые люди из библиотеки, стоявшие у бимы, вышли на улицу посовещаться.
У библиотечной компании был гость — Дон Дунец, который учился в виленской семинарии «Тарбут» и приезжал летом на пару недель в Валкеники к родителям. Его отец был тихий еврей, садовник. Он сидел в синагоге в уголке и не отрывал глаз от молитвенника, будто считая себя виноватым, что сын — полная его противоположность по характеру и поведению. Дон Дунец кипел, как раскаленный котел. Когда он говорил, черные патлы волос вываливались из-под бело-голубой форменной фуражки «Тарбута». Он размахивал своими длинными руками, а его глаза горели лихорадкой еще не осушенных болот государства первопроходцев. Он желчно высмеивал валкеникских евреев, которые сидели и ждали, чтобы их перенесли в Эрец-Исроэл, как цитрон в серебряном ларце. Они ожидают страны, текущей молоком и медом! На Мессию, который въедет на белом ослике на гору мусора валкеникского синагогального двора, они надеются, эти мелкие лавочники. Однако и местечковая молодежь не радовала Дунеца. Когда-то в местечке было движение «Ге-халуц». В последнее время халуцев не стало, потому что нелегальная репатриация прекратилась.
— А где же стойкость? — вопрошал Дон Дунец.
Тем не менее он водил дружбу с леваками из библиотеки, и теперь они избрали его, чтобы он выступил перед массами в синагоге. Поскольку он был учащимся семинарии «Тарбут» и разговаривал на иврите, буржуазия могла отнестись к нему с доверием. К тому же в местечке он считался гостем, у обывателей не было к нему таких претензий из-за неподобающего поведения, как к местным. Ему только посоветовали не кипятиться, чтобы было понятно, что он говорит.
Все знают, что суббота «Нахаму» — это сионистская суббота и что в качестве мафтира[42] вызывается глава валкеникских мизрохников Эльцик Блох. Но на этот раз вызов для чтения мафтира получил его свояк, сторонник Агуды, под тем предлогом, что у него годовщина смерти прадеда. Реб Гирша Гордон читал без надлежащего напора, хриплым голосом, а дойдя до стиха «На гору высокую взойди, вестница Сиона»[43], горько расплакался. Эльцик Блох даже подскочил: как у еврея могут быть такие бесстыжие глаза! Он ведь враг Сиона! Но реб Гирша плакал из-за мучений, причиняемых ему тем, что мизрохники и пророка Исайю затаскивают в свою еретическую компанию. В эту минуту с улицы строем вошла библиотечная компания и плечом плечу двинулась к орн-койдешу[44], словно на штурм крепости. Реб Гирша взглянул на них поверх залитых слезами очков и продолжил читать по пергаментному списку, пока не дошел до конца недельного раздела Торы и не произнес соответствующих благословений. Молящиеся знали, что библиотечная компания требует, чтобы одному ее представителю дали выступить. Все повернули головы к биме, желая посмотреть, как поведет себя в этой ситуации реб Гирша. К удивлению многих обывателей, реб Гирша подмигнул посланцу общины, ведшему молитву, чтобы тот пока не забирал свитка Торы в орн-койдеш. Безбожники хотят говорить? Пусть говорят! Дон Дунец поднялся на возвышение и заговорил:
— Мидраш говорит…
Реб Гирша Гордон заранее договорился со своими сторонниками, чтобы они дали безбожникам поорать. После этого можно будет спокойно прочитать «Мусаф». А когда дело дойдет до денег на покупку книг для библиотеки, им достанутся болячки, а не деньги. Однако на то, что тарбутник наберется наглости начать свою речь с мидраша, реб Гирша не рассчитывал. Кровь застучала у него в висках, лицо покраснело.
— Мидраши цитируешь? А кисти видения ты носишь? Покажи, что ты носишь кисти видения, как я и другие евреи в синагоге! — бесновался Гордон и обеими руками вытащил из-под своего лапсердака арбеканфес.
Дон Дунец растерялся, и даже патлы его как будто испугались выпрыгнуть из-под бело-голубой фуражки. Ответил вместо него Меерка Подвал из Паношишока.
— А что, кисти видения — это обязанность человека или обязанность талеса?[45]
— Чем бы ни были кисти видения, ты большевик и каторжник! Ты не должен был дожить до того дня, когда вышел из тюрьмы! — заорал реб Гирша еще громче и ткнул пальцем в Дона Дунеца: — Стащите его вниз!
Около бимы вырос Исроэл-Лейзер со своей компанией блатных парней. Эльцик Блох бросился к ним:
— Дайте ему говорить! Мизрахи хочет, чтобы он говорил! Мизрахи за то, чтобы община дала денег на покупку книг на иврите. У реб Гирши мы не спрашиваем. Он не член совета общины.
Однако Гордон продолжал кричать вне себя:
— Стащите его с бимы, этого тарбутника!
Сторонники реб Гирши Гордона поддерживали его криками:
— Вон с бимы! Вон!
Дон Дунец уже пришел в себя, он кипятился и махал руками:
— Валкеникским евреям больше нравится оплакивать разрушение Храма, чем строить Эрец-Исроэл. Им главное говорить: «И да узрят глаза наши Твое возвращение в Сион в милосердии Твоем»[46]. Лжецы! Разве они действительно имеют это в виду? Валкеникское изгнание нравится им больше, чем возвращение в Сион.
Больше Дон Дунец ничего не успел сказать. К нему протянулись руки, и в одно мгновение он слетел вниз. Один уголовник всей жесткой пятерней заехал интеллигенту Мойше Окуню по щеке.