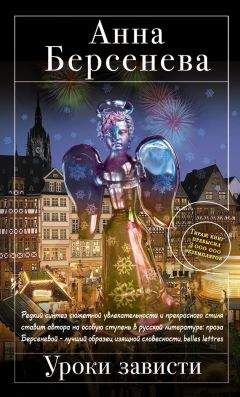Уже пахнущий валидолом Усков взял её под руку и повёл к выходу, замечая, как они обращают на себя внимание встречных и просто толпящихся в вестибюле людей.
— Да, — впервые улыбнулся он. — С вами быстро станешь популярным. Шёл сюда, меня в упор никто не видел — в Москве генералов, как собак в Казани, а сейчас, гляньте, швейцар честь отдаст.
— А это плохо — быть популярным? — чуть коснулась она его плеча своим.
— Смотря в чём. Я вот популярен среди жуликов, но они почему-то не тянутся ко мне, а шарахаются куда подальше. В колхозы забираются, в дальние сёла…
Швейцар, пожилой, седогривый мужчина комплекции Степана Дурандина, заметив их, действительно поддернулся весь и лихо вскинул перед Усковым руку к фуражке, не приминув, однако, съегозить глазами на Любу.
В глубине серого провала между зданиями гостиницы и Госплана, как утром, дул хлёсткий ветер, но теперь он ещё и косо нёс мелкий снег, кидая его прямо в глаза. Не прячась от холодных игл, бьющих в разгорячённые щёки, Люба развернулась к Ускову с вопросом, но он упредил её своим:
— Сколько вы были замужем за Сокольниковым?
— Полгода. И почти год были знакомы до брака.
— И счастливо жили?
— Как сказать… До брака лучше, чем после. Веселее. Интереснее. Много ездили. Потом его перевели в деревню, мы расписались, и он очень изменился. Переживал, постарел…
Юрий Александрович жестом поманил к себе шофёра из запорошенной снегом «Волги», сказал, чтобы тот выруливал на улицу Горького и ждал его у книжного магазина. Шофёр, худенький, бледный парнишка в милицейском мундирчике без погон, затяжно, болезненно как-то поглядел на Любу и, молча, убрался в машину.
— Как понять «изменился»? — спросил Усков, приглашая Любу идти к переходу.
— Он как будто очень устал со мной. Плохо спал, ночами долго курил у окна. И работа у него очень тяжёлая была в колхозе.
— А он не говорил, что его угнетает?
— Нет. Но мне казалось, что он стал чувствовать разницу в нашем возрасте.
— Могло быть и это, конечно, хотя вы, как мне кажется, не очень обращаете внимание на разницу? Или я ошибаюсь? — Усков откашлялся в кулак, поймав себя на бестактности, но извиняться не стал, посчитав, что Люба не заметит его оплошности, и поспешил с новым вопросом: — Кстати, накануне той поездки на охоту у вас не было какого-нибудь необычного, на ваш взгляд, разговора?
— Всё было, как всегда в последние полгода. И в отличие от вас, генерал, он мне не хамил, — добавила она подчёркнуто спокойно. — И насчёт разницы вы не правы. Не я его отлавливала, он заметил меня сам.
— Да, и сломал вам молодость…
— А мне все её ломали. Я не помню ни одного парня или зрелого мужчины, который бы ни приглашал меня прогуляться с ним вечерком или «выпить чашечку кофе». А с Анатолием, наоборот, стало спокойнее. Шушера хотя бы не приставала, хотя его друзья и начальники тоже всё время ловили момент пригласить «прокатиться» с ними.
— Весёлая у вас жизнь…
— Очень. Мне иногда кажется, что всё мужское население страны озабочено только тем, как бы забраться кому под юбку. Это очень весело!.. Скажите, — остановилась Люба, — почему все, вы в том числе, считают, что у Сокольникова были кучи денег?
— А вы так не считаете? — спросил Юрий Александрович, приглашая её пройти дальше по улице.
— Я нашла в доме только одну сберкнижку с остатком в двести семьдесят рублей, и отдала их за гостиницу. Завтра мне уже придётся что-то продавать с себя. Если их были «кучи», то где же они?
— А это задача, которую Сокольников задал органам перед поездкой на охоту. По тем делам, что он проворачивал до отъезда в деревню, у него действительно должны были быть кучи. Впрочем, он мог и не посвящать вас в свои дела. Хотя… при такой разнице возрастов и при том внимании, каким вы пользуетесь у мужчин, он мог бы и похвастать состоянием. Прикупить красотку. Значит, этого не было? — Спросив, Усков чуть отстранился от Любы и как бы со стороны оглядел, во что она одета.
— А вы не допускаете, что он был выше этого? — спросила Люба, так же оглядев Ускова. Генерал становился неприятен ей бесцеремонностью, но бросить его посреди улицы она не решалась — неизвестно, что он хочет от неё. Хорошо, что в мужья не лезет. — Анатолий никогда не жалел на меня денег — это верно, — сказала она. — И всё, что на мне, это он покупал. Но он и всё остальное — даже продукты и косметику — покупал сам, и мне не нужны были деньги. Разве что по мелочи. Для этого у нас и была сберкнижка на предъявителя. По-моему, и сыновьям он ничего не давал, а дарил вещи. Машину старшему… Что-то Васятке…
— Тоже интересно. Когда вы собирались сюда, вас никто не просил пожить пока в деревне? Я имею в виду милицию.
— Замуж звали сразу после похорон, но не из милиции.
— Вот видите, значит, не всё мужское население страны озабочено стремлением… взять вас замуж! — засмеялся Юрий Александрович и, поглядев на часы, махнул шофёру, чтобы подогнал машину. — Всё! Я должен ехать. Скажите, Люба, — он придвинулся к ней лицом, — только честно… Чем от меня пахнет?
— Не водкой, — ответила она, отстраняясь, потому что пахло от него смесью валидола с нафталином и ещё чем-то несвежим.
— И то ладно, а то, не дай бог, и верно министр нагрянет в управление или вызовет. Приятно было познакомиться. Запомню вас надолго. Не каждый день швейцары честь отдают. — Он слегка помял её тёплую — из варежки — руку в своих остывающих ладонях. — Значит, планы у вас определённые… Жаль, мне уже не двадцать пять…
— Не жалейте, генерал. Зато уже не лейтенант, — ответила Люба, мягко отнимая у него руку.
— А что так — «не жалейте»?
— Не знаю. Просто я ещё никому не приносила счастья.
— А, может, они не понимали, в чём их счастье с вами?
— Ну, вот, и вы туда же…
— Виноват. — Юрий Александрович козырнул и открыл дверцу машины, из которой на Любу опять глянули неподвижные, тяжёлые глаза молоденького шофёра. — Если буду нужен, — спохватился Усков, — звоните. Звоните, и если что-нибудь захотите мне сказать о Сокольникове. — Он достал маленький блокнотик, аккуратно вырвал оттуда листок, на котором были отпечатаны его фамилия, имя, отчество и два семизначных телефонных номера.
Машина нехотя отчалила от тротуара и, помаргивая левым указателем поворотов, никак не решалась рвануться в ревущий поток. Наконец её словно стегнули, она вертанула за собой белым парным хвостом выхлопа и, вклинившись в общую массу движения, унеслась вверх по улице.
«И что дальше? — спросила себя Люба, чувствуя, как начинает резать глаза то ли обида, то ли жалость к себе. — Ну вот, не хватает ещё разреветься посреди улицы. Стоп, стоп, стоп! О чём слёзы? Никто не умер. Кроме Сокольникова. А он — умер насовсем. И где же его «кучи», сколько их было? И сколько денег считается «кучей» — тысяча или сто тысяч? — улыбнулась, вспомнив мультик, где попугай и мартышка решали такой же вопрос: три ореха — это куча или не куча? А четыре?.. Куч нет, а я дура, что полезла в этот номер и отдала за него последние. Это Сафроныч платил такие деньги за номера. С одной зарплаты? Ничего ты, дурёха, не знала. Маман, и та была в курсе, если просит прислать. Теперь мне надо просить у неё или ехать к ней на скандалы… Или возвращаться в парикмахерскую у рынка, сшибать трояки и проситься к Дусе на квартиру?»
Люба шла по улице в том направлении, куда поток унёс машину Ускова, шла не в ритме «заведённых» какими-то надобностями людей, а сама по себе и, не увёртываясь от встречных плеч и обгоняющих её сумок, задевающих и подталкивающих её. В этой необоримой сумятице ей сейчас ни до кого не было дела, потому что она не знала главного: что делать с собой. Но, думая тоскливо и неопределённо о своём, она каким-то недреманным краем сознания всё-таки улавливала, что и до неё здесь никому не было дела. Мужскую часть населения несло мимо, и она лишь скользила по Любе глазами, не зацепляясь за неё и, видимо, даже не выделяя из движущейся массы. И это не то чтобы обижало — обида не осознавалась, — а добавляло растерянной отчуждённости от улицы, её настёганного ритма.
На углу, где за потоком машин кого-то понуро ждал однобоко занесённый снегом Пушкин, Люба вошла в общий ритм, перебежала в нём улицу. Хотела повернуть вправо к кинотеатру, но оттуда дунул ветер с колючим снегом, она отвернулась от него и побрела дальше, потом переходом вышла на другую сторону, и её понесло ветром вниз, мимо ходиков с двумя разноцветными стрелками, прыгающими, как маятник, туда-сюда, в пролом неширокой улицы.
«Куда это я? — спросила себя Люба и ответила: — а какая разница?» — и вдруг ощутила, что это уже другая Москва. Та, бегущая с суетным хрипом моторов, осталась за спиной, и от неё теперь видна только белая голова Пушкина с чёрным опущенным лбом. А эта — уже, ниже и тише, почти без прохожих и машин. Но вот вывернулся из дворика невысокой многоэтажки с аккуратными елями и чинно прошуршал рядом длинный, как вагон, лакировано-чёрный автомобиль, Сквозь его притенённые окна — Сокольников на старой работе доставал для своей «Волги» такие же — Люба различила шофёра с высоко задранным подбородком, крутящегося на заднем сидении ребёнка и женщину в белой вязаной шапочке с валиком над самыми глазами.