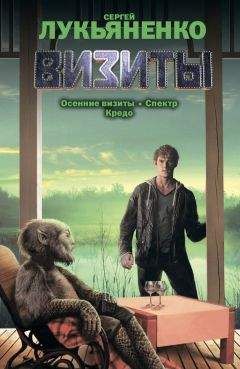Спустя двадцать минут, забыв в такси шарф, я семенил, бежал, прыгал вверх по ступенькам подъезда Елены Николаевны.
Дверь отворила сиделка или подруга – я видел ее впервые. Выдохнул: «Где?» Оттеснил даму – у нее было вытянутое, некрасивое лицо, с белыми волосками на подбородке, как вялый, проросший бородавками, картофель – и вломился в комнату.
Елена Николаевна спала, отвернувшись к стене, завешанной мохнатым ковром, бледная, почти прозрачная при скудном свете из-за занавески. Ее худые кулачки с зеленоватыми жилками под мраморной кожей покоились поверх одеяла, как у ребенка. Пышные волосы, примятые подушкой, темнели на белой наволочке. Кружевная рубашка с цветочками обнажала острое плечо и ключицу. Моя Елена Николаевна! Я опустился на стул рядом, как был в пальто нараспашку, уткнулся в ладони и замер. Сиделка недовольно кашлянула: с моих полусапог капал талый снег.
– Выйдите, пожалуйста. Она только заснула! – различил я над ухом сдавленный клекот, и с неудовольствием покосился на ведьму за спиной.
Мы вышли на кухню. «Ведьмой» оказалась подруга Курушиной, некая Волкова. Она подменяла Лору Дыбову.
– А почему сиделку не наняли?
– Не хочет! Теперь, Леночке лучше. А неделю назад мы все перепугались!
История болезни оказалась до ужаса нелепа. «Болела на ногах. Через неделю слегла с высокой температурой. Забрали в больницу, потому что некому ухаживать. Она ушла оттуда. Грипп дал осложнения на почки».
Я слушал и представлял больную в пустой квартире…
– Почему она не осталась в больнице?
– Вот и мы удивляемся. Ее же не в эти, простите, вшивники привезли. Саша распорядился в управление! А вы, извините, родственник?
– Д-да… Двоюродный племянник.
Женщина, прищурившись, с лукавинкой в опытном глазу, разглядывала меня сквозь сизое облачко сигаретного дыма. На ней был костюм канареечного цвета, на жилистой шее нитка жемчуга в три витка.
– Вас не Артур зовут? – иронично осклабилась дама.
– Артур.
– Очень приятно…
– Уже?
Дамочка прыснула. Затем показала, где лекарства, объяснила, когда принимать, и кому звонить, и, наконец, ретировалась.
Это было мое второе и последнее возвращение.
Елена Николаевна выздоравливала не спеша. Можно сказать, со вкусом. Она была так слаба, что я провожал ее в туалет или к умывальнику. Я прошел (надеюсь, успешно) стажировку повара, сиделки и домработника. По телефону я предупредил мать, что задержусь в Москве.
Товарки по инерции опекали Елену Николаевну. Но моя ревнивая недоброжелательность скоро урядила их визиты. Ни для кого не было секретом, что я именно тот субчик, и, вероятно, начну снова домогаться Лены, воспользовавшись ее слабостью. Как позже выяснилось, Дыбов пропадал где-то за границей в длительной командировке. Иначе б мне несдобровать.
Почти месяц пространство ограничивалось для меня кубометрами квартиры и длинной обледеневшей тропинки к магазину и аптеке, изученной до мелких трещин в асфальте. Ведерников следил за торговыми операциями и испуганно отмахивался от меня, стоило мне появиться в конторе: мол, хлопочи о больной, а уж мы как-нибудь. Ни без семитского расчета.
Когда Елена Николаевна впервые вышла на балкон в шубе, шапке, рукавицах на собачьем меху, обутая в старые бурки, и укутанная сверху одеялом, я ощущал себя так, как вероятно ощущает себя родитель, после тяжелой болезни ребенка. Дыхание весны, первая капель: все это, конечно, было. Но были еще и радостные глаза моей Елены Николаевны. В них разгоралась жизнь. Я поцеловал эти родные глаза. Она завертела по сторонам головой в шутливом испуге и проговорила:
– Тут же все видно!
Тогда я расцеловал ее холодные щеки.
Сразу после весеннего праздника Розы Люксембург вторично на моей памяти больную навестил наш общий друг Александр Ефимович Дыбов. В красный день, не желая портить настроения женщинам, грозный Цербер их общего царства теней, лишь ненавистно презрел меня. Самостоятельный же визит отца какой-то там отрасли производства был так же агрессивен, как вероятно, его муштра подчиненных. (От души им сочувствую!) Злой гений скандала, он и не подозревал об услуге, оказанной счастливым затворникам.
Елена Николаевна читала в постели. Сашок, походя, справился у нее о здоровье, кисло улыбнулся и, прикрыв двери, подбородком указал мне на кухню. За минувшие дни он, очевидно, достаточно вскипятил мозги на мой счет и в рабочее время (было начало четвертого) решил изобличить тунеядца.
Темно-синий двубортный костюм, солидный, как генеральский мундир, он носил ладно. На белой шелковой сорочке серел галстук, прямой и неброский, как воображение его обладателя. При наших, почти равных габаритах у меня было маленькое психологическое преимущество перед Александром Ефимовичем: домашние тапочки по размеру. А солидный муж, накаченный до сивой шевелюры злостью, натаптывал свои голубенькие хлопчатобумажные носочки на прохладном полу. Я хамовато и независимо опустил руки в карманы брюк, не менее добротных, чем костюм гостя.
– Послушай! – зарычал Дыбов. – У тебя есть совесть? Оставь несчастную женщину в покое. Она больна. Не будь подлецом! Ты же показал осенью, что способен на благоразумие и человеческий поступок…
– У меня нет совести! – честно признался я. Мы мгновение гвоздили друг друга взглядами, и мне показалось, сейчас две огромные кувалды кулаков под прицельной наводкой налитых ненавистью глаз начнут дробить череп проходимца в тщетном поиске там чего-нибудь, кроме кости и порока. Однако, воспитанный Дыбов отчаянным усилием воли – скорее всего он рассчитал, что при падении я наделаю много шума – заставил себя отойти к окну и видами весенней капели остудить свой гнев. Следующая реплика старого дурака настолько обескуражила меня, что кулаки в карманах сами разжались. Старый Скалозуб, номенклатурный барин ляпнул дичь из благих побуждений. И я простил его.
– Сколько ты хочешь… чтобы навсегда убраться отсюда? – предложил он.
– Ровно столько, чтобы я не видел тебя в доме моей жены!
Дыбов резко обернулся, очевидно, решив, что мы говорим о разном. Его брови все еще были сдвинуты, лоб наморщен, но губы обмякли в параличе изумления. Волны его эмоций двигались откуда-то снизу. Его взгляд промахнулся в миллиметре от моего плеча за спину. Я проследил траекторию. Лена слушала перебранку, укутавшись в накинутый на плечи халат.
– Саша, если ты приехал оскорблять Артура и меня, то тебе лучше уйти! – негромко проговорила она, и ступила к сигаретам на холодильнике.
Мы с Дыбовым проводили ее радугой взглядов. Он, ошеломленный, ждал немедленных объяснений. Я следил за ней с любовью и озабоченностью сиделки, самовластно решавшей, что можно и нет больной.
– Тебе… вам нельзя курить!
Лена по привычке подчинилась и села на стул.
– Лена, о чем он? Алексей ведь рассказывал, что Оксана…
– Артур говорит обо мне…
Дыбов таращился на Лену и с трудом ворочал в мозгах неподъемные глыбы мыслей.
– Ты хочешь сказать?…
– Да, именно это я хочу сказать! – раздражаясь, оборвала женщина.
Бедняга Дыбов, он еще ждал опровержений, оговорок, объяснений. Но никто и не думал ему собить. И в плотном тумане недоумения Александра Ефимовича вдруг блеснула спасительная, все объясняющая пошлость.
– Да, ты просто выжила из ума, Лена! Чаще смотрись в зеркало! – прорычал он, привычно набычился, и свирепо поглядел на меня. Что ж, ему не возражали! Тогда он, натаптывая носочки, ринулся вон. Дверь хлопнула…
Казалось, за стариной Дыбовым захлопнулся вход в прошлую жизнь: вокруг нас зазвенела немая тишина. Я впервые по настоящему осознал себя взрослым.
Лена пересела на табурет у окна, обессиленная почти легла на колено и подогнутые локти, и закурила. Взгляд ее был ясен и спокоен. Она лишь разок едва заметно нахмурилась, вероятно, думая обо мне, так же, как я думал о ней: мысли влюбленных часто совпадают.
– Обмоем? – пошутил я.
– Как водится…
Передо мной в альбоме, раскормленном старыми и свежими фотографиями, цветной глянцевый снимок, яркое пятно минувшего среди нынешних пустяков. Четверо на ступеньках районного «Дома торжеств». Николай Иванович Кузнецов в парадном генеральском мундире, отблески золотой молодости на звездных погонах в красной окантовке прожитого, его жена Наталья Олеговна с серебряным ридикюлем на цепочке через запястье, в волосах строчки времени в тон; и мы с Леной. Держим фужеры с шампанским. Пустая бутылка нанизана горлышком на мизинец свидетеля. Лена шутливо тянет ко мне губы трубочкой. Я пальцем из-под фужера показываю, что нас снимают. Свидетели с радостным изумлением смотрят на мою жену.
Неужели был тот прохладный май, месяцы надежд и открытий!
…Дня через три Лена первой обратила внимание на замолчавший телефон. Никто не звонил. Мир затаился под окнами и за дверью, и настороженно прислушивался: что дальше?