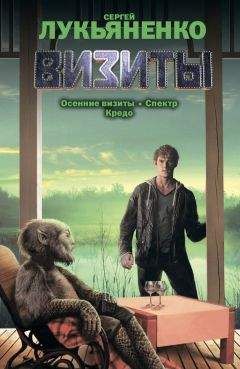Метаморфозы во внешности Лены, к которым я привык, потрясли ее старых друзей. Мы съехались в разных машинах. И, пока Лена выбиралась из тесного салона, уворачивалась от карликовых сводов, чтобы не истоптать парикмахерский шедевр, Кузнецовы смотрели на нее во все глаза. Она была в светло-бежевом, тонкой шотландской шерсти костюме. Юбка чуть ниже колен открывала красивые ноги. Модные туфли в тон на низком каблуке, светлая блуза с люриксом и вышивкой ручной работы, бриллиантовые серьги и брошь, парфюмерия, все было продумано талантливым визажистом, косметологом и Кутюрье: моей женой. Куда до нее было белоснежным, инкубаторски-безликим новобрачным красавицам и их расфуфыренным гостям.
Саму процедуру помню плохо. Кажется, по незнанию мы пренебрегли рутинным правилом, по которому жениха и невесту разводят в разные комнаты, и оставались вместе, пока нас не вызвали. В отражении зеркал зрелую красавицу и рослого усача в черной тройке с золотой булавкой в галстуке сопровождали военный чин и миловидная женщина: четверо безмолвно направились к резной, белой двери в зал, со спокойствием посторонних на чужом торжестве. Некая пухлая мамочка совой хлопала глазами и недоумевала на странный квартет: а где жених и невеста? Новобрачная крашенная блондинка завистливым взглядом проводила бриллианты Лены. Мужчины в кружок, только что смеявшиеся, повернулись к нам и замолчали. Губы Лены надменно подрагивали. Во мне смешались неловкость оттого, что на нас смотрят и тщеславие.
Буро-красная с зеленой окантовкой дорожка поделила пополам мозаичный пол обрядового зала. Высокий, как в цирке потолок, и беленые стены, роскошная пластмассовая люстра и огромное панно с угловатыми символами семейного счастья: даже эти изыски советской безвкусицы казались мне значительными. Маленькая женщина в балахоне, в чем-то средним между вечерним платьем и русским сарафаном, выдержала паузу, ожидая гостей. Но в обширную залу вошли лишь четверо, и голос женщины зазвучал, как тайна для посвященных. В пункте казенной, заученной наизусть речевки, где вероятно было – «поздравим молодых», женщина запнулась и, заменила сочетание, на новобрачных. Так же были опущены абзацы о родительском благословении, о чем-то пошло-торжественном так и оставшемся для меня загадкой. Имя невесты тоже вызвало заминку – то ли называть по отчеству, то ли по-матерински, фамильярно. В абзаце о потомстве генерал переступил с ноги на ногу. Может, устал от своего влитого караула.
На ступеньках загса Лена шепнула мне: «Ты хорошо держался!» Я двусмысленно согласился: «За тебя!» – и пригубил из фужера. Мы дурачились, шутили: «Генерал, прикажи всем напиться!» – «Коля, думал ли ты, что будешь гулять на свадьбе с генералом!» Коньяк пили прямо из бутылки. Это был наш с Леной день.
В ресторан из шестнадцати приглашенных пришли Кузнецовы, Волковы и Ведерников с женой. Все единодушно напились, и процедуру «горько!» перенесли на улицу и к нам домой. Отсюда Кузнецов по телефону приказывал не явившимися на банкет, и на следующее утро я опомнился на даче, у каких-то Лимоновых, куда утроенная пьяная кодла рванула на машинах с ящиками водки и мясными припасами. Следующим вечером меня вносили на руках в опочивальню жены, а утром мы снова пьянствовали. Мы напропалую «тыкали», пели оды Лене и женщинам вообще, и мужчины, каждый конфиденциально, наставляли меня: «теперь ты отвечаешь за нее!»
Степенные дяди и тети, они бесились и танцевали, рванув вместе с нами на тридцать лет назад в свою молодость. Стакан, рюмка или фужер, по вкусу, объединили нас. Мосты времени были сожжены, и вся компания Лены оказалась по одну сторону. При мне: их последнее единение.
Жену в эти дни помню смутно. Я знал: она где-то рядом, моя, родная. От рождения и до смерти. Я взобрался на пик счастья, где сиял мой Бог в плоти.
– Я хотела, чтобы ты запомнил этот день! – в разгар веселья сказала Лена.
Я прикрыл ее губы пальцами.
– Тогда надо было пригласить на свадьбу лишь тебя и меня!
В середине весны мы с Ведерниковым, наконец, немного разбогатели, и я купил в Подмосковье сруб. Нанял рабочих, разобрал его и в короткий срок поднял вполне приличный двухэтажный особняк.
Деревенька Годуново выгодно отличалась от дачных, бесправных микрогородков средней удаленностью от Москвы и замечательной природой. (Железнодорожная ветка отстояла километрах в девяти по проселку.) Лес и речка начинались сразу за обширным, поросшим крапивой и лопухами, огородом. Лена была в восторге от этого затерянного уголка и с энтузиазмом принялась за его обустройство.
Первый месяц я безвыездно провел в деревне. Мне доставляло наслаждение, не свойственное моему возрасту, не спеша окультуривать землю примитивными сельхоз инструментами и ежесекундно знать: Лена рядом. Мы подлогу, как дети, сидели в траве, и, улыбаясь, смотрели друг на друга. Она носила ситцевый, в цветочках сарафан. Подбив подол между расставленных ног, и, облокотившись о колени, простоволосая, мечтательно подпирала ладонью подбородок и травинкой щекотала мое лицо. Пахло взрыхленной землей, дурманом помятой и вырванной травы.
Целоваться под открытым небом мы не рисковали. Вокруг нашего дома обосновалось четыре или пять московских семей на таких же участках. Нас с Леной приняли за мать и сына. Не хотелось разочаровывать соседей. Но уже в доме мы давали волю воображению. Московская гаденькая суета, наши чопорные знакомые, все это мы вымели из памяти сухой тряпкой, как пыль, чтобы не разводить грязь.
После выездов в город, самым сладким для меня было возвращение. От мягко замершего мотора автомобиля, до сибаритства в плетеных креслах под тентом или под сенью яблонь (при доме, кроме огорода рос крошечный сад в несколько старых деревьев), колено к колену с женой. Пока я плескался под ржавым баком с нагревшейся на солнце водой (это замечательное приспособление мы отказались поменять на водопровод), столик в саду украшали суповница и кулинарные шедевры Лены.
В погожие жаркие дни мы ходили на речку, единственное общественное место в деревне. На узком песчаном пятачке у излучины собирались немногочисленные дачники и несколько подростков аборигенов. Помню ту скрытую гордость, когда Лена в открытом купальнике шла рядом со мной к воде, или я провожал ее взглядом вместе с отдыхающими. Она ступала короткими, быстрыми шажками, чуть разводя миниатюрные стопы, и поправляла под купальной шапочкой волосы. Ее светло-шоколадная кожа, умытая прикосновениями солнечных лучей, была упруга и маняща, как у красавиц из глянцевых журналов. У кромки воды Лена оборачивалась, прощалась со мной, пошевелив пальчиками, и решительно ухала грудью, сморщившись от брызг и не погружая лицо в зеленый омут протоки. Плавала она долго. Выбиралась из воды, не спеша, будто изучала под холодными струями округлые коленные чашечки. Ступив на песок, счастливая и томная, находила меня глазами, улыбалась и, расставив ладошки, как это делают дети, изображая пингвинов, с все той же блуждающей улыбкой на губах шла ко мне, зная, что на нее смотрят. Она была моя от острых лодыжек, до матовых полосок кожи под купальником.
По соседству с нами на пляже обычно располагалось семейство: супруги и два разнополых подростка. Женщине было, самое большее, лет тридцать пять. Но ее дряблые, оплывшие жиром чресла, выпуклости и углубления! Я скорее отворачивался от этого буйства плоти. Ее муж, сухой, долговязый гражданин облизывал Лену плотоядным взглядом. Нас позабавило, когда однажды девочка, их дочь, подражая Лене, расставила руки и томно пошла из воды.
По другую сторону нашей усадьбы обосновались почтенные предпенсионеры. Некто Ганшины. Без знаменитой приставки Зи. Ганшихе перевалило за пятьдесят. Она была тремя или четырьмя годами старше Лены, костлява, и выглядела сущей каргой рядом с моей женой.
Надеюсь, читатель извинит мне сравнительную антропологию. Молодость придает значение не только содержанию, но и форме. А воплощенная гармония в близком человеке лишь усиливала восторг.
Ганшиха едва не накрыла нас. Вредная старушенция. Обычно она слащаво скалилась, и два ее верхних резца по-заячьи нависали над губой. Ганшиха картавила. Между собой мы передразнивали ее приветствие внукам: «Здга-а-вствуй, моя гадость!» Да, так вот, Ганшиха имела вредную привычку: неслышно подкрадывалась к дому и заходила на открытую веранду без стука. В те времена глухие ворота на автоматических замках и злющие дрессированные людоеды были редкостью в России. Зная шпионские замашки старой карги, мы набрасывали крюк на двери, а потом ссылались на до или после обеденный сон. На этот раз крюк безалаберно освободили от сторожевых обязанностей. Лена как раз оседлала меня на полу в бешеной джигитовке, когда мы услышали: на веранде кто-то ходит. Жена швырнула мне полотенце, и одновременно натянула через голову сарафан. В приоткрытые двери показался крючковатый нос Ганшихи. Она скалила отвратительные клыки.