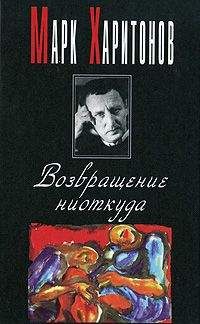— Простите, — движением кисти она отгоняет от себя сигаретный дым и вместе с ним видения. — Я запуталась. Не надо было вам этого говорить. Но я смотрю на вас — и мне даже трудно говорить вам «вы». Сколько раз я твердила себе: надо просто жить. Почему он не мог, почему не хотел уехать? Ведь есть же где-то нормальная жизнь, где даже неприятности и заботы обычные, человеческие. Где по вечерам сидят в кафе, болтают о пустяках, страдают от любовных неудач, от чего-то понятного… Или это тоже иллюзия, и нормальной жизни не хватает все того же, все того же? Вдруг чувство, будто ты уже разучилась жить с нормальными. — Покачала опять опущенной головой. — Смотришь на них и думаешь: ну вот, они не испытали того, что он, не знают того, что он. И рассказывать им бессмысленно: не поймут. Есть опыт, не нужный, не обязательный для нормальной жизни. Как есть несчастье, болезнь, безумие. Ведь правда? Нас это не касается. Незадетые этим могут лишь покачивать головами. Сочувственно и с сознанием отстраненного превосходства. Но может, им просто пока недоступно что-то, что далось ему дорогой ценой? Хотя рано или поздно дойдет и до них, это лишь вопрос времени. У него было чувство, будто в мире вообще нарушается какое-то равновесие. И нужно сознательное усилие, чтобы предотвратить угрозу. Здесь это ощущается, может быть, просто острее, чем в других местах. Потому что здесь до последнего надеялись обойтись, решить все каким-то чудодейственным образом… ну, тут уже начиналось что-то вроде фантазий на знакомые темы. Но для него за фантазиями было что-то другое, необъяснимо важное. Это надо было еще додумать, и именно здесь. Как будто здесь мысль работала иначе… Не знаю, не знаю. Может, я уже от него заразилась. Есть, говорят, у животных органы, существующие непонятно зачем, бесполезные в обычной жизни, как будто даже излишние, их, может, следовало бы даже удалить, чтоб зря не воспалялись. И вдруг наука начинает догадываться, что при каких-то обстоятельствах — болезни, опасности — именно без этих органов, пожалуй, не обойтись… Не слушайте меня. Вам это ни к чему… не надо… Почему я говорю это вам?..
Стрелки на часах сцепились. Кукушка высунулась из домика и не хочет назад, молчит, как соглядатай, напоминающий, что вы тут не одни, а может, дремлет, утеряв интерес к разговору. Вот что это, оказывается, такое, это существует все-таки на самом деле. Раньше ты мог это лишь предполагать, зная, что для тебя это невозможно, недоступно, в это скорее хотелось верить, как хотелось бы верить в загробное продолжение (с небескорыстной надеждой: а вдруг в самом деле каждому воздается по вере его) — но вот, оказывается, в самом деле, ты способен это испытать: головокружение, и легкость, и сознание невозможности, и бессмысленное, несмотря ни на что, счастье; ты уже знаешь, что такое соблазн и что такое единственное, и сладко откусывать хлеб в том месте, где она его держала руками, и, как музыка, голос, и каждое движение ее, как музыка — когда она убирала со лба мизинцем и средним пальцем выбивающуюся снова прядь или просто дула на нее, а ты приближал лицо, чтобы уловить дыхание кожей щеки. Краснота простудного раздражения увеличивала край верхней губы за счет кожи, и меня трогал этот живой изъян, не прикрытый косметикой.
— Откуда ты взялся такой? — говорит она (голос сбивчивый, и сбивчивые мысли, шкафчик, перевернувшись, плавает в дымных облаках). — Как ты мог возникнуть здесь, в этом городе, у этих родителей? Откуда вообще что берется в человеке, в этой выжженной, загаженной, обезумевшей жизни? Не все можно объяснить. И может, в этом надежда. Не от всего, оказывается, можно уберечь, вот чего мы с твоим папой не захотели понять. Гусеница не может не выйти из кокона, только и всего. Если договаривать до конца, я не приходила не только из-за просьбы твоего папы. Хватит с меня одной вины. Но, может, без этого тоже нельзя. Без этого нельзя даже родиться. Тебе не обязательно меня понимать. Я сама себя не понимаю. Бедный мальчик! Зачем ты подобрал чужое? Мог бы жить себе дальше без этого. Или не мог?.. Наверное, не стоило бы тебе приходить. Хотя при чем тут ты… Я сама… надо уезжать поскорей… но нельзя же было не оглянуться…
Снова отводит со лба прядь пальцами, свободными от сигареты, и смотрит на меня, смотрит.
— Ничего, и это пройдет. Кое-что и я умею видеть наперед. Например, что я отсюда уеду и мы никогда больше не увидимся. Невелика проницательность, конечно. Единственное, что можно предсказать без ошибки. Кто-то рано или поздно исчезает из жизни другого. Рано или поздно. А в промежутке происходит то, что называется жизнью. Слышишь, как мерзко тикает это устройство? Отсчитывает. И не остановишь. Как редко мы задерживаемся на этом мыслью. Хотя что все наши заботы перед этой, единственной? Между прочим, я их никогда не подтягивала…
Светится сигаретный дым под лампой, в мозгу, плавает в воздухе, квадратное время повисло вниз головой, благоуханные заросли пахнут дымом нездешних костров, весенним соком, сладкой горечью прошлогодних листьев, волосами древней царицы, темные внимательные глаза смотрят, не отрываясь, сверху, а может быть, снизу. Тысячные, миллионные доли вероятности сходятся ради встречи, и все они ничего не значат перед непреложностью расставания — на время или навсегда, тебе еще не дано этого знать, невозможно себе даже представить, что навсегда; ты еще не заблудился, пустившись ее снова искать, тебя еще не избили в Зоне глухонемые, и ты еще не узнал, не вспомнил чего-то самого важного, что вспыхнет на миг словно от удара по голове, чтобы тут же снова погаснуть. Но даже если бы тебе дано было увидеть события жизни расположенными в разных местах одновременного пространства: вот вы на слякотной улице, тени снежинок под фонарем, как невесомые мухи, и вот вы же на чужой кухне, кукушка вывалилась из часов, а где-то дальше, впереди, весенний березняк, нежные верхушки сходятся в синеве, стекло и рамка пейзажа в мушиных точках, — даже если бы кто-то мог тебе это показать заранее, все равно этого ты бы не смог изменить. Невозможно даже намекнуть, невозможно предупредить и ободрить.
— Иди, — говорит она. — Сейчас стемнеет, тебе будет трудно найти дорогу отсюда, а я не могу тебя проводить. Лучше не надо. Иди… Можно я поцелую тебя на прощанье?
Множатся шепоты, отдаются в ушах, усиленные пространством или временем, еще бессловесные, еще не распознанные, еще непонятно откуда… идешь на них с замирающим сердцем, дальше, вглубь, мимо желтых столов читальни, там бледный, стриженый наголо мальчик на своем любимом месте в углу, у батареи, наслаждается пыльным сухим теплом, запахами книжного уюта, чувством родственной принадлежности, которая давала ему право проходить в служебные недра, мимо библиотечных стеллажей с бумажным плакатиком красной и зеленой тушью: «Любите книгу — источник…», мимо старухи в сером, как на фотографии, складчатом одеянии (покачивая головой, она возвращает очередную книгу на полку и берет новую, листает, но все чего-то не может найти) — на поиск родителей, потерявшихся, как в детском страхе.
«Что ты здесь ищешь?.. Я уже с ума сходил. Что ты…»
Дальше, глубже, за шагом шаг, из шепота в шепот, по крошащимся ступеням вниз, в библиотечное хранилище, где книги свалены штабелями, набухают на сводах черные капли, из темных глубин тянет прелью, обмороком и тошнотой, и еще дальше, куда уже не достает свет грязной лампочки, лишь где-то впереди огонек свечи обозначает вокруг себя трепетный шар; еще один огонек приближается к нему, перекидывая по стенам бесшумную тень. Краснеют на просвет пальцы, прикрывающие свечу от встречного воздуха.
Голос мамы и голос отца. «Пойдем домой. Что ты здесь делаешь, в подвале, в холоде, так поздно? Я уже с ума сходил, где ты. Что ты здесь ищешь?» — «Книги. Мне надо найти книги». — «Какие книги? О чем ты говоришь? Вот же они вокруг». — «Это не те. Были другие. Нам их подменили». — «О чем ты говоришь? Как это подменили?» — «Я не заметила. Выдрали из обложек, чтобы сдать в макулатуру, а взамен подсунули то, что там не принимают. Там ведь не все берут». — «Ты шутишь?.. Я не понимаю, о чем ты. У тебя какая-то недостача? Но мы же только приехали. Тут что-то натворили до тебя?.. Да объясни же, что ты молчишь? Конечно, лучше было проверить, когда принимала дела, но вряд ли это было технически возможно. Столько томов. И в таком помещении. Ужас! Это ты своему начальству в случае чего предъяви претензии: безобразие так содержать книги. Разве ты виновата, что они хранятся в таком подвале? Почему мы должны все время отвечать за кого-то? Что опять за ловушка? У меня похожая история… Нет, а главное, все это ерунда. О чем мы говорим! Странная фантазия… или ты в каком-то литературном смысле? Не понимаю. Ты не виновата ни в чем, успокойся». — «Видишь этот замок на двери? Как по-твоему, что за ней?» — «Не знаю… Ты вся дрожишь. Здесь холодно. Пойдем». — «Там продолжаются подвалы. Я слышала про них в детстве. Будто они обширные, целая сеть. И там тоже книги. Или то, что от них осталось. Принюхайся, чем оттуда тянет… неужели не чувствуешь? Страшней, чем в мертвецкой. Замок теперь не открыть. Но перегородка, смотри, фанерная, еле держится, только надавить немного. Даже моих сил хватило бы». — «Ты нездорова. Тебе здесь вредно быть». — «Если то, что было, считать здоровьем. Нам подменили книги, а мы не заметили. То есть как не заметили? Мы сами кинулись наперегонки сдавать что угодно в обмен на неизвестно что. Даже не на бумажки — на сомнительное обещание. Мы в очереди выстраивались, чтобы сдать память, близких, душу, совесть, внутренности. Оставляли себе лишь то, что им не годилось. Для их производства. Не положено по инструкции». — «Ты бредишь. Я не понимаю. Еще скажи, что эта макулатура идет на пасту. Тут кто-то специально, говорят, распускал вздорные слухи. Пока с ним не разобрались. Неужели ты слушаешь бабьи россказни?.. Дай-ка лоб… Ты больна. О боже! Какие очереди? При чем тут ты? Ты никогда ничего не сдавала». — «Разве я только о книгах! В нас самих, вот тут, что-то выпотрошено и подменено. Мы только стараемся не замечать пустоты и подмены, мы научились извлекать из себя искренность, чтобы казаться себе все-таки настоящими. Хочется ведь себя уважать». — «Я не понимаю. Почему ты говоришь: мы? Что ты придумываешь! Ну рассуди спокойно: допустим, тебе что-то вообразилось. Пропажа, или, как говоришь ты, подмена. Допустим. Но ведь люди, как всегда, приходят, берут, что стоит на полках, читают и возвращают. Так? Никто ничего до сих пор не сказал, никто ничего такого не замечает. Значит, тебе именно почудилось, да? Это же очевидно». — «Я тоже не замечала. Предпочитала не замечать, не вчитывалась как следует. Это ведь даже похоже на настоящее. Открываешь страницу, вот: слова, буквы. Но если колупнуть ногтем, вот так, проступит гной и кровь. Неужели ты не чувствуешь запах?» — «Что значит запах? О чем ты? Боже, как ты дрожишь! — (И голос дрожит от любви, и муки, и жалости, и от надежды, что это пройдет). — Ты нездорова, ты не понимаешь, что говоришь… Ну хотя бы накинь еще мое пальто… Прижмись ко мне»…