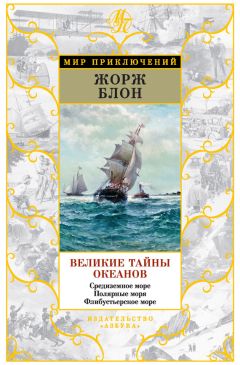Утро застало нас в бухте. Сусальное золото, разлитое по штилевой глади, дымка, одновременно и прячущая, и как-то ярче очерчивающая большое: суда на рейде, узкие косы, отмелями перегораживающие вход в бухту, далекий поселок, приподнятый на прибрежном накате, набитом тысячелетними приливами, — все это — романтическая реальность северного приморья на протяжении от Ямала до Таймыра. Иногда и на большом равнинном озере можно увидеть подобное, на несколько минут задохнуться от огромности и красоты мира, но это, если оказаться на нем в тишине и безлюдии самой ранней стадии утра, когда зоревая дымка только-только приподнялась над горизонтом, окрасив воду и небо в розовые цвета молодости.
Картину портили только комары, уже налетевшие и безжалостно жалившие, не признавая никаких законов землячества. На сухогрузе все, кроме вахтенных, спали. Мои тоже посыпали в каюте, милостиво освобожденной нам по распоряжению капитана. Спал и поселок, хотя над ним стояло, вернее, ходило по спиральным кругам незакатное солнце полярного лета. Я так и провел остаток ночи на палубе, то яростно воюя с комарами, то закемаривая на чугунном кнехте, после того, как завернулся в плащ-куртку и затянул наглухо капюшон. Я смотрел на желтый неровный, словно мелко измятая, поставленная на ребро лента, берег, и в груди тихо-тихо прищемливало приглушенно приятной, но все же болью. Я узнавал крыши, облазенные когда-то с риском для шеи и еще одного места, если поймают. Мне даже показалось, что разглядел скат своего дома. Я живо представил мать, одинокую, постаревшую, укладывающуюся на свою панцирную кровать, других она так и не признала, на свою толстенную упругую перину из пера добытой братом на охоте птицы. Как она, мучимая бессонницей и ожиданием, вглядывается в наши знакомые, но уже отдаленные временем и от карточки к карточке изменяющиеся лица, а они, бесстрастно и всегда с одним и тем же выражением, глядят из-за стекла большой рамы на прикроватной стене.
Несмотря на все мои внутренние просьбы и мольбы, поселок спал. Спали причалы, дремали разномастные катеришки, даже не покачиваясь на ровной воде. Халеи — эти вечные любители поглазеть и поживиться возле вновь прибывшего судна — и те куда-то задевались. Дрых и брат — иначе он был бы тут как тут на своей быстроходной «Казанке», любимой и холимой им ничуть не меньше, чем в иных краях легковой автомобиль. К тому же на легковушке здесь не разбежишься — от «лужи» до «лужи» всего-то два-три десятка метров сухого пространства, а за поселком и вообще болото. Зато хорошая лодка с мощным мотором, да еще с удобствами — это уже средство и для рыбалки, и для выпендража. Знакомых женщин здесь катают тоже на лодках — словом, все, как везде. И вот теперь, в утро перед понедельником — ни тебе любопытных, ни катающихся…
А солнце, взбираясь выше, цепляло своими лучами спящих, будя тех, кому было вставать. Первыми проснулись халеи. Они прилетели и, гортанно покрикивая, стали гоняться друг за дружкой, выдирая из глоток отходы, выплеснутые за борт из окна камбуза поварихой. Хотя, по морской традиции, эту полную, еще молодую женщину команда звала коком. Через пару часов, разогреваясь, застучал на всю округу двигатель электростанции, возвещая о наступлении рабочего утра. Ну, а когда над пирсом вдруг дернул своей жирафьей шеей кран и расходившемуся не на шутку главному дизелю поселка стал весело подстукивать мотор дежурного катерка, оторвавшегося от причальной стенки, пришел и мой черед обрадоваться предстоящему дню. Точно, чутье не подвело — катер, отражаясь стуком в пространстве, а черно-серым корпусом в воде, шел к нам. Я разбудил своих и, с непонятным сыну восхищением, рассказал ему про бухту, про халеев и катера, на которые он уже насмотрелся за время плавания, на всю последующую жизнь. Катер сделал как бы круг почета вокруг сухогруза и начал поджиматься к нашему борту. Еще не передали чалку, а с него кричат мне: «Ого, наконец-то приехал», — и не дожидаясь, когда переберусь на катер, сообщали новости о друзьях — кто здесь, на месте, кто в отпуске, а кто и вообще убыл в иные «лучшие» дали. В ответ я кричал, кого привез с собой и сколько пробуду дома. Когда бросили трапик — доску с набитыми поперек брусками — и успели хмыкнуть над женой, обутой в босоножки на высоком каблуке, все уже было известно мне и понятно им. Дочку с сыном забрали в рубку и около получаса они испытывали верх блаженства, держась вместе с дядей Васей за большие рога деревянного полированного штурвала.
Вот и я дома. Под ногами черная, по щиколотку, пыль — время разгрузок, а уголь — это энергия и жизнь на зиму. Правда, весь Союз знает о газовом крае, и при чем здесь теперь уголь, мне тоже как-то не очень понятно. Я спросил об этом школьного товарища, выскочившего из «Беларуси» с тележкой, поставленной под загрузку. На мои слова он только кривовато усмехнулся и проронил: «Газетки читаете?» И я не знал, что сказать дальше. А ведь верно, читаю: и про газ, и про романтиков, и про новые города, все описывается с массой цифр и взахлеб. Чемоданы наши уже несут, а на соседнем пирсе, на расстоянии крика, вразвалку, впереди своих мужиков из бригады, в ветровке, американских джинсах, наконец-то используемых по назначению, и домашних тапочках на босу ногу, идет мой младший братишка, брат — здоровенный парень с обветренным до загара лицом, простым и резко высеченным. Тяжелый физический труд грузчика не оставляет в человеке лишнего. И только при близком общении в глазах можно рассмотреть те особые черточки, что отделяют людей друг от друга, делают их такими разными. Кричу: «Ми-ша-а-а! Мишка-а-а!! Михаи-и-ил!!!» Парень приостановился, его словно за полу придержали, повернулся на голос, замахал руками над головой и побежал назад. Я видел, как сбились с ноги, потом сгрудились в кучу остальные, некоторые повернулись в нашу сторону и тоже поприветствовали нас поднятой рукой — эти меня знают, а потом чинно, неторопливо пошагали к головке причала, где, чуть-чуть возвышаясь над водой, сидел груженный под завязку понтон. Шла не бригада — шло само достоинство рабочего человека, сознающего, что вот сейчас, своими руками разгрузит этот понтон, вон ту баржу, подошедший сухогруз и еще много-много больших и малых судов за короткий срок навигации, и именно он, а никто другой, даст поселку все необходимое на долгую холодную зиму.
Прошло несколько суматошных дней радости и встреч. И вот, после недолгих переговоров с ребятами, которым было уже за тридцать, решили съездить за рыбкой, на уху. Особенно радовался сынишка — он голосил: «Поедем! Поедем!» — подпрыгивал, топал ногами, словом, выказывал счастье современного городского мальчишки. Вечером я в новенькой штормовке, в братниных запасных болотных сапогах, сопровождаемый сыном, появился на берегу. Гошка, один из стародавних друзей, указал на лодку, ближе других болтающуюся с задранным подвесным мотором на слабом прибое: «Вон та, моя. На ней и двинемся». Спустились под берег. Откинув выцветший до белизны брезент, Гошка уставил палец на большую сырую от недавнего лова сетчатую кочку, уложенную на разрезанный ковриком огромный канадский мешок:
— Бери за тот край, поволокем вниз. Ты уж, наверное, отвык от тяжестей?
Мы стащили невод по пологому, изрезанному талыми потоками, травянистому склону и, пробредя метров ста до «Казанки», осторожно уложили его в корму. С моря показалась еще одна лодка и, на малом ходу, вспенивая и мешая воду с песком, подъехала к нам. Сынишка перебрался к брату. Уложили припасы, устроились сами, Гоша дернул шнур стартера, и ветер свистнул в уши, а в поясницу стало отдавать от ударов днища о верхушки волн, не хуже чем в машине на плохой дороге. Шли против ветра в сторону Марсалинского маяка. Было время отлива. Впереди стали хорошо различимы очертания морских трубовозов, они привозили северным путем трубы для всей Тюменщины и здесь, на траверзе поселка, сгружали их на речные суда, уходящие вверх по губе и Оби на тысячи километров. Так вот, только тогда, когда очертания транспортов стали четкими, лодки повернули обратно к берегу. Этот маневр нужен был для того, чтобы объехать северную косу. Иначе ее не преодолеть — десятки квадратных километров водной глади лишь чуть прикрывают песчаное дно, и если во время мощных весенних и осенних приливов еще можно проскочить поближе, то в июле судьбу лучше не испытывать, чтобы не толкать потом тяжелую лодку многие километры по скрипучему засасывающему песку И ребята не рисковали. Гошка вел моторку ровно, а брат, скалясь и махая свободной рукой, лихачил, бросая свою «Казанку» то вправо, то опять к нам, влево, качал нас на своей волне, проскакивал в полуметре от нашего борта и кричал: «Ну, как, братан, нормально!!» Я кивал, хотя шутки его вызывали у меня сердцебиение, так как рядом с Мишкой сидел мой сын. Но тот тоже хохотал и, обдаваемый брызгами, подначивал дядю: «Дядь Мишь, давай их обольем». И дядя, круто меняя направление, поливал нас веером летящей из-под винта воды. Словом, экипаж у них был несерьезный. Берег, раньше утерянный из виду, теперь опять приближался. Поначалу он стал тоненькой черточкой, потом вырос в небольшой барьерчик, а еще через минут двадцать превратился в высокий желто-зеленый, местами обрывистый яр, который все приближался и приближался, однако был намного дальше, чем сочная густая кайма поймы, надвигавшаяся на нас. Неожиданно махровый бордюр расступился, и лодка плавно вошла в речку Хабиди-Яха. У изъеденного течением берега причалили. Теперь надо ждать момента прилива, когда речка, под напором быстро прибывающей с моря воды, как бы потечет вспять, то есть она не совсем будет иметь противоположное течение, а именно два разнонаправленных потока — один, верхний, потечет в сторону истока, а нижний по-прежнему будет пробивать себе дорогу к морю.