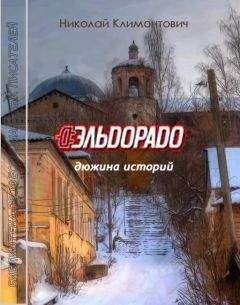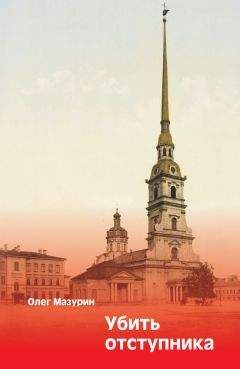Впрочем, Саня не пошел по естественнонаучной стезе, но выбрал карьеру кинематографиста. В этом была повинна Белла — он с детства называл мать по ее настоянию именно так, Белла, тогда как младшая Ксения все-таки мама. Белла была некогда испанской переводчицей, — выучила испанский, когда рука об руку с одним из мужей защищала республиканский Мадрид, — подвизалась синхронисткой, водила маленького сына на закрытые просмотры в Дом кино и поддерживала дружбу с приятелем того самого мужа Карлосом Саурой, кем-то в роде испанского Бондарчука. Любила она и театр, и на всяком прогоне на публике очередной постановки Виктюка можно было увидеть ее, мирно дремлющую в первом ряду. Однажды мы столкнулись с ней в театральном фойе, здесь был и Саня, увидев меня, он крикнул сейчас вернусь. Пошел звать свою новую жену, сейчас будет перед вами хвастаться, объяснила мне его мать. Новая жена действительно явилась, звали ее нежно — Тая, молоденькая и очень хорошенькая актриса из Минска, с которой потом в Америку Саня и укатил. Впрочем, Белла довольно скептически относилась к достижением сына на ниве искусства экрана, хотя он после ВГИКа снял на родине популярный детский сериал, а на деньги американского продюсера — довольно дикий по невежеству триллер из жизни русского средневековья со своей белорусской женой и Стивеном Сигалом в главных ролях. Нет, мы с Волей не в восторге, трезво сказала мне Белла после просмотра — Волей она называла своего мужа, носившего полное имя Вольдемар Владимирович.
Была Белла до старости и отчаянной путешественницей, мой отец рассказывал как-то, что однажды при пересадке в Льеже — он направлялся из Брюсселя в Москву — на мокром пустом перроне увидел маленькую одинокую фигуру пожилой дамы при огромной груде чемоданов, и это была она, а ведь ей тогда шло к восьмидесяти. За всем тем она успевала быть верной женой и стойкой хозяйкой, держать в отменном порядке оба дома — вторая квартира у них была в ученом городке Пущино, окнами на Оку, на заповедник с зубрами на противоположном берегу. И сопровождала мужа на все научные конференции, куда того приглашали. Казалось, при такой энергии, при таком не иссякающем жизнелюбии мысль добровольно уйти из жизни не должна была приходить ей в голову, хоть и была она, конечно, вполне самурайского характера.
Саня оставил свою жену Таисию в Голливуде, где, впрочем, ни он, ни она работы пока не нашли, но предпочитали обретаться именно там, поближе к американскому кинопроцессу, надеясь на нечаянное везение, и прилетел хоронить мать. На похороны он меня не позвал, я понимаю его, неприятно оказаться в центре такого скандала: кажется, он стеснялся экстравагантного материнского конца, породившего, конечно, в Москве много пересудов. И позвонил лишь, когда все было кончено. Ему предстояло еще проваландаться на родине пару недель, речь шла об оформлении наследства, и мы решили по старинке отправиться в Сандуны, а потом пообедать в Узбекистане, как когда-то. Мы попарились, попили пива в предбаннике, вспоминая былые дни и общих девиц, он хвастал, что вот-вот запустится на одной из Голливудских студий с лентой по собственному сценарию, носившему рабочее название Пистолет, но тему семейных дел тщательно обходил. И только за столом ресторана, когда под салат из редьки с бараньим жиром и лагман с домашней лапшой мы прикончили вторую бутылку и заказали еще, он вдруг сказал что-то в том духе, что матушка перед смертью задала ему загадку. И прибавил не без раздражения ну, ты же ее знаешь, употребив по привычке настоящее время. И лишь когда мы доедали плов под третью бутылку, запивая горячим зеленым чаем, он сказал:
— Понимаешь, после смерти отца мать нашла в кабинете, в тумбе его письменного стола, запас зубной пасты. Странно, да, что ты по этому поводу думаешь?
Я ничего не думал по этому поводу, и готов был отнести гигиеническую предусмотрительность академика на счет известных слабостей больших ученых, со странностями бытового поведения которых был знаком не понаслышке. Она сказала еще, помню, добавил Саня задумчиво, что только тогда поняла, как была перед ним виновата…
Саня Ритерман давно вернулся к осаде Голливуда, я стал забывать и его семейную драму, и его самого, хоть изредка мы обменивались шутливыми электронными письмами — все реже, впрочем. Но время от времени ни с того ни с сего я вспоминал наш разговор в узбекском заведении, пытаясь разгадать загадку, что задала своему сыну покойная Белла напоследок. Перед ним виновата, перед ним виновата, повторял я ее слова, удивляясь — она была образцовой и заботливой женой. Даже не женой — матерью. Я вдруг удивительно явственно вспомнил один непарадный ужин у них в квартире. За большим столом в столовой сидели гости, все друзья дома, чужих не было. Белла привычно вела стол, и время от времени обращалась к мужу ведь правда, Волик? Академик, осанки барственной, с чутким носатым профилем, сидел молча в своей кабинетной куртке и ничего не отвечал, лишь кивал едва приметно седой с проплешинами головой.
Да-да, вспоминал я, в ее присутствии покойный Ритерман всегда помалкивал. Помню, на одной конференции в Таллинне, куда я был приглашен отцом в качестве водителя, — потом он хотел заглянуть в Тарту, посетить Новгород и Псков, вернувшись в Москву через Валдай, — Белла царила на завершающем банкете. Она была здесь единственной женой, другие дамы были участницами. Нет, она не исполняла роль тамады, но как-то исподволь, быть может, бессознательно направляла застолье. И в какой-то момент Белла поднялась и произнесла замысловатый тост за ученых мужей, и было понятно, что она таким способом славословит собственного мужа. Тот поморщился, и я слышал, поскольку сидел рядом, как он прошептал ну, Белла, зачем… А она повернулась к нему, сияя неумеренно накрашенным для ее возраста лицом, и строго сказала сухого красного можно.
Нет, глупо было бы говорить, что он был под каблуком, его человеческая значительность и мужская достаточность ни у кого не вызывали сомнения, но сфера его жизненного пространства была заужена, присутствие жены было тотальным, куда он ни повернись. Я примерил ситуацию на себя: скорее всего, я так жить не смог бы. И вдруг мне все стало ясно с этой самой пресловутой зубной пастой: академик наивно пытался иметь в собственном доме хоть что-то свое, не свои лишь ученые книги, ни свои рукописи, но что-то частное, бытовое, мужское. Курить под давлением жены он давно бросил, и не мог коллекционировать трубки. Мыло, полотенца, белье, — все было жене подконтрольно. Вот разве что паста… И, кажется, только после смерти мужа именно это Белла и поняла, наткнувшись на его личные не прошедшие ее таможню припасы.
Прошло не меньше трех лет с похорон Беллы, когда Саня был в Москве в последний раз. И вдруг он позвонил, был оживлен, сказал, торопясь, старик, завтра в Доме кино в большом зале моя премьера, потом — сам понимаешь… жду, начало в семь. Фильм назывался Пистолет, это не было новое слово в кинематографе, так, довольно обычный триллер, но сделана лента была на удивление динамично и крепко, и я искренне был рад за Саню, азартно аплодировал, когда он и его группа вышли на сцену на поклоны. Обнялись мы только в ресторане, и я поздравил его. Он вглядывался в меня не без тревоги, но, удостоверившись, что я не льщу ему из обязанности, а радуюсь за него, усадил за банкетным столом от себя по правую руку. И даже поднял тост за друзей молодости.
Саня стал совсем американцем. То и дело оговаривался, переходя на английский, кокетливо извинялся, не без блеска играя роль любимчика публики и героя дня. Я улучил минутку, когда гости налегли на горячее, чтоб перемолвиться с ним парой слов. Таисия не поехала, ей, кажется, дают роль, как-то между делом сказал он.
— Слушай, Саня, возможно, я понял… Помнишь ту загадку с зубной пастой, что загадала тебе мама…
Он посмотрел на меня, не понимая, о чем я, какая паста? И тут же, как некогда, задорно подтолкнул меня локтем, указывая глазами на известную красивую высокую грудастую актрису с глупыми глазами, что сидела напротив нас за столом. Неплохо, а? Что ж, он не устал и привычкам молодости не изменял. Да и выглядел очень моложаво.
Она умерла от разрыва сердца на улице, выбежав растерзанная, в порванной дубленке, на мороз из квартиры, где временно проживала с мужчиной ее двадцатилетняя дочь Марина. У подъезда ждал последний, как оказалось, в ее жизни любовник Василий — безнадежный и нищий сочинитель и исполнитель под гитару лирических песен, бард, так это отчего-то называется. Она прошла несколько шагов по тротуару, нагнулась, зачерпнула ладонью снега, приложила к разбитому лицу, пробормотала сейчас бы коньяка, что ли, вскрикнула от боли и рухнула другу на руки.
Мать и дочь в тот день решали вопрос раздела маленькой двухкомнатной квартиры вблизи метро Коломенская, где обе были прописаны. Марина выросла в меньшей комнате, где в детстве мать запирала ее на время своих самых веселых вечеринок. Теперь повзрослевшая дочь требовала свою законную долю жилплощади, но матери казалось, что та, неблагодарная и своекорыстная, мечтает на пятом десятке вышвырнуть ее на улицу. Потому, было понятно, что их дешевую квартиру не разменять, и двух квартир за нее никак не получить и из нее не сделать. А денег ни у той, ни у другой не было.