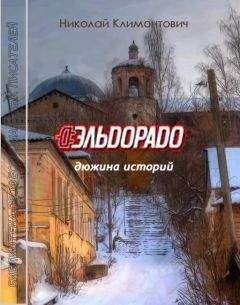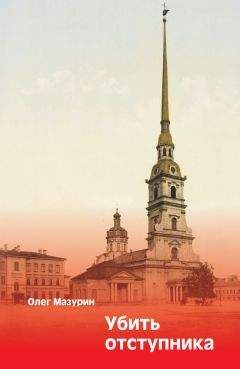Так получилось, что самого Тинского я тоже немного знал, но познакомился с ним, когда Леся уже от него сбежала, и он жил со следующей женой по имени, кажется, Ольга, пухлой женщиной с большой бородавкой на правой щеке, по специальности, если мне память не изменяет, дежурной по этажу в интуристовской гостинице. Трудно представить, сколько остается в номере барахла после иностранки средней руки, приговаривал Тинский: он, как и многие его коллеги по официальному советскому искусству, никогда не гнушался мелкой фарцовкой. Знал я его по ресторану Дома кино, где он скандалил и дебоширил. Убей не помню, как мы оказались однажды за одним ресторанным столиком, а потом у него в квартире, — кажется, он зазвал меня и одну из спутниц к себе читать стихи. И он действительно читал под коньяк, который я прихватил перед самым закрытием, в последний момент в буфете, малодоступного тогда американского Бродского и еще какие-то стихи, явно превосходившие Бродского по качеству и которые Тинский приписывал себе. Помнится, мы сбежали от него обманом, поскольку он не хотел нас отпускать, но легкомысленно положил ключи от входной двери на стол на кухне, в которой нас принимал.
С Лесей мы быстро сдружились. Тогда это была уже весьма разбитная и ушлая дамочка, не растерявшая, впрочем, ни веселости, ни радости бытия, ведущая образ жизни вольный и всегда открытая самым сумасшедшим приключениям. По краткому размышлению я решил, что иметь ее в любовницах весьма хлопотно, а вот обрести в ее лице дружка очень даже удобно. Я быстро убедился, что передо мной замечательный тип бесшабашной авантюристки, щедрой, непрактичной и неверной. Могу найти на улице миллион, но забуду его в трамвае, так характеризовала она сама себя. Я бывал свидетелем ее головокружительных любовных эскапад. Однажды она поехала отдыхать в Батуми и привезла оттуда очередного возлюбленного — дрессировщика дельфинов: могла и дельфина прихватить, куражилась она. В другой раз у нее завелся поклонник — капитан речной сухогрузной баржи. И, поскольку ее дом выходил торцом на набережную Москва реки, капитан приплывал к ней на свидания на своем судне. Это я называю наиболее экстравагантных ее любовников, а кинематографистов и художников, пресных после бурного Тинского, я уж и не вспоминаю, эти, судя по отзывам Леси, были малоинтересны и все как один помешаны на порнографии. Пожалуй, один только был забавен, еврейский поэт-песенник: перед тем, как ложиться в кровать, он решал, какое животное будет изображать во время акта. Скажем, сегодня, приговаривал он, снимая трусы, я буду ягуаром. А ты что, спрашивал я Лесю. Что-что, он рычал, я пугалась, это его возбуждало…
Время от времени Леся устраивалась на какую-нибудь работу, всегда тоже довольно странную: инструктором Бюро пропаганды киноискусства или ассистентом главного художника будущей Московской Олимпиады. Этот самый художник, разумеется, тоже был ее любовником, и до Олимпиады занимался постановкой праздничных демонстраций на Красной площади. Это был очень богатый пожилой человек со старой парализованной женой-еврейкой, мечтавший уехать, наконец, в тихую и теплую страну Израиль, где к каждой немолодой финиковой пальме подается отдельно свой ручеек воды, вот только закончатся эти игрушки. Это именно он придумал летающего Мишку, который должен был в день окончания Игр отправиться по воздуху в свое последнее путешествие. То есть не самого Мишку, но его полет: как деятель тертый, он прекрасно понимал, насколько советское начальство жестоко и сентиментально, и точно так же сентиментально и жестоко подвластное ему население. И это именно он утвердил веселенькую, ярко-малиновую летнюю, с короткими рукавами рубашек, форму охранников, и едва не поплатился за это: такая рубашка не скрывала револьвера. И спасла старого оформителя языческих коммунистических массовых действ именно она, Леся, которая поехала на фабрику со всей партией этих самых проклятых рубашек и уговорила работниц остаться на ночь, чтобы к утру безвозмездно, из одного патриотического чувства нашить длинные рукава, которые прикрывали бы кобуру. И старик так растрогался, что предложил ей руку и сердце, уверяя, что больную жену он, конечно, не оставит, но что они уедут в землю обетованную все вместе, втроем, туда, где пальмы, пески и жива память о библейских чудесах. А денег на всех у него хватит. Но Леся лишь весело смеялась, хоть и говорила мне, что по-своему привязалась к этому старому и щедрому с ней чудаку. Кончилась эта любовь на моих глазах: я заглянул как-то к Лесе в гости, на улице был страшный дождь, она забрала мою рубашку сушиться, а выдала чью-то чужую. И в этот момент в дверь позвонил ее жених. Он увидел меня в своей рубашке и все понял, разубеждать его было бесполезно. Я слышал, как, уйдя на кухню, он, человек тертый, но артистический, бурно зарыдал.
Работала Леся урывками, в охотку, потому, что нужды зарабатывать не имела — неплохим источником дохода для нее были алименты, которые поступали к ней в виде процентов с заработков Тинского: тот в большинстве случаев выступал и в роли соавтора сценариев собственных фильмов. Каких-то истернов из времен гражданской войны, каких-то героических лент из жизни доблестного ЧК, каких-то биографических картин-биографий отечественных революционных деятелей. Но получить причитающееся по исполнительной листу было нелегко: Тинский гастролировал по всему Союзу, подвизался на республиканских студиях, подставлял в титрах фиктивные имена. У него, кроме Мариночки, было еще две дочери от разных жен. И теоретически он должен был отдавать этим давно чужим ему тетям половину всех своих заработков. И вот Леся нашла адреса двух своих, так сказать, родственниц, сестер, так сказать, по несчастливым бракам, которые до тех пор не были знакомы друг с другом, и вызвала их на совещание в кафе Националь. Здесь за столиком был заключен исторический тройственный союз: объединившиеся бывшие жены Тинского поделили между собой все студии страны по территориальному признаку и поклялись снабжать друг друга всей нужной информацией. Леся вспоминала, что из Националя она поехала домой к старшей жене — допивать, и там они провели чудесную ночь любви — в память, так сказать, о неверном Тинском. Думаю, он никогда не узнал об этом лесбийском приключении своих былых подруг, но зато однажды, придя на Мосфильм за огромной по тем временам суммой гонорара за какую-то свою революционную картину, разрыдался у кассы, получив лишь половину того, на что рассчитывал. Он вопил, рвал на себе волосы, скрипел зубами и рычал бляди, бляди… Я все это рассказываю так подробно, чтобы подчеркнуть: при жизни Леси он ее видеть не желал, справедливо полагая, что это именно она придумала столь организованно отбирать у него кровные деньги.
И здесь я опишу последнюю полосу жизни Леси. К сорока у нее стало пошаливать сердце, тогда как прочие шалости стали надоедать. Короче, она решила притормозить. Она забрала-таки дочь в Москву, устроила в школу, и веселья действительно поубавилось, хоть и трудно было бороться с собственными привычками. И тут опять жизнь ее самым непредсказуемым образом повернулась. У нее завелся очень приличный постоянный любовник, проректор одного из московских театральных училищ: он и надоумил Лесю, всегда любившую театр, правда, безответно, поступить на заочное отделение факультета режиссуры народных театров. Леся приезжала со мной советоваться. Твердила, что все забыла, имея в виду давние школьные познания. Я подбадривал ее, полагая в глубине души, что из этой затеи ничего не получится. Но я недооценивал ее характер потомственной староверки. Она поступила, став в сорок лет студенткой, что-то там сдала ускоренно и через два года получила диплом: как назидательно говаривал один мой приятель, поэт и бродяга, когда просил у меня водку, ни на ком, Коля, никогда нельзя ставить крест. Этот самый диплом Леся получила за дипломный спектакль, который поставила в драматическом театре своего родного города. Здесь наша дружба почти обрывается: несколько лет я ничего не слышал о Лесе, но однажды она мне позвонила, мы встретились в Центре. Она была умопомрачительна. Так выглядят состоятельные дамы из далеких провинций, и я решил грешным делом, что в своем городе она вышла замуж за секретаря райкома. Или за директора торгового порта. Но дело обстояло много ошеломительнее: замуж она не выходила, но стала главным режиссером тамошнего театра.
Вернулась она в Москву из-за той же дочки Мариночки, которая, уже семнадцатилетняя, оканчивала школу и должна была поступать в институт. Здесь начинается самый темный для меня период жизни Леси. Знаю только, что ни в какой институт Мариночка не поступила — не захотела поступать. Что характер у девочки проснулся бабушкин по отцовской линии, казацкий, агрессивный, без тени материнской женственности и жалостливости. Своего отца Тинского дочь пыталась преследовать, тот от нее прятался, думаю, ею руководили не сентиментальные чувства, но расчет: с ее восемнадцати лет он не обязан был ей ничего платить, и она хотела, так сказать, продлить контракт. Чем занималась Леся — не знаю, я лишь однажды встретил ее днем в одной московской грузинской забегаловке, куда захаживали актеры ближнего театра и студенты консерватории есть очень здесь вкусные и недорогие хинкали. С Лесей был этот самый бард, которого я видел впервые — за спиной у него была гитара в коричневом футляре. Оба были не то что пьяны, но в них бродили, что называется, вчерашние дрожжи. Леся, мне показалось, не была слишком мне рада, но схватила за рукав и сказала: хочу представить тебе своего будущего мужа, автора-исполнителя… Этот самый муж мало того, что был ее видимо младше, но казался плюгавым и зашуганным, особенно на фоне некоторых былых ее любовников. Я понял, что от меня требуется, заказал выпивку, закуску, харчо для Васи и выпил с ними по рюмке, как за будущих молодоженов. И быстро ушел: оба показались мне потертыми, помятыми, опустившимися.