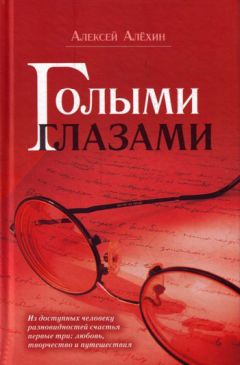валяется в шезлонге
с «Историей мошенничества в России».
Освежая в памяти теорию, вероятно.
На мраморном бортике отстегнутая дамская нога.
В чулке и спортивной туфле.
Триумф французского импрессионизма
Совершенно сезанновский, как бы выписанный зеленовато-коричневыми квадратными мазками, пейзаж по дороге в Эфес.
Каменные ломти гор.
И чтобы не осталось сомнений, вверху на неприступной глыбе намалевана белой краской реклама «Рено».
Эсхил
Развалины.
В амфитеатре та же пьеса.
Цикады. Хор.
Клеопатрин пляж
Как потрудился над ним Господь!
Каждая песчинка – произведение ювелирного искусства: крошечное белое, прозрачное, коричневое или розовое овальное зернышко.
Так и вижу Творца с черной лупой в нахмуренном глазу.
С пинцетом в терпеливой руке.
Одиссей
Воняя дизелем, наша триера ползла вдоль пиратских гаваней и затонувших греческих городов.
Турок-капитан, разложив на штурвале газету, время от времени отрывал глаза от репортажа о вчерашнем футболе и подправлял курс.
Пенелопа могла быть спокойна и чесать языком с соседками.
Ровно в 17.30 он обмотает негнущийся канат вокруг причальной тумбы, соберет с пассажиров положенную мзду и отправится домой обедать.
Памяти парусинового портфеля
Это был воистину замечательный портфель: грубого серого брезента, с клапаном из толстенной мягкой кожи. И такими же уголками.
С кожаными петельками для ручек-карандашей, с вместительным глубоким нутром. Я уже видел в нем свои записные книжки, и газету, и очешник, и пачку рукописей.
Он так и остался лежать в той заваленной до потолка портфелями, сумками, визитницами и портмоне дивно пахнущей кожами лавке.
Затерянной среди сотен таких же кожевенных, ювелирных, одежных и сувенирных лавок, магазинов и магазинчиков курортного городка.
Лавочник уперся, плут, и не сбавил цену.
Наука любви
Ты спросишь, в чем.
В море, в намазанных от загара пальмовым маслом женщинах.
В девицах, выползающих, извиваясь, из тесных джинсов на утреннем ветерке, на которых глазеешь, валяясь на плоском желтом матрасе.
В розово-фиолетовой тягучей вечерней волне, в которую погружаешься, как в объятья.
В полуденном воздухе, дрожащем над изрытым босыми ступнями пляжем.
В обладании жизнью и морем.
Юная скандинавка с юным турком льнут друг к дружке на горячем песке, вставив в уши по наушнику плейера, и слушают одну музыку на двоих.
Прилежные ученики, они не замечают моря.
Мелочи праздной жизни
Завтрак горстью маслин.
Ломтиком овечьего сыра, оставляющего вкус перечитанной строки из Гесиода.
Работник, почистив бассейн, единоборствует с удавом, укладывая кольцами рифленый шланг.
Морщинистая, сложенная вдвое старуха, вводимая под руки в воду и так же бережно извлекаемая оттуда – после того, как сплавала до буйков.
Туда же и ты на своем чахлом, пропускающем воздух матрасике.
Бело-голубое прогулочное корыто с крупно выведенным по борту именем «Геркулес».
Башнеподобный турок на коротких ногах.
Квадратная, вздутая, гремящая, как папирус, лепешка, подаваемая на черной доске.
Выбритое актерское лицо Ататюрка в стоячем воротничке глядит с турецких денег холодными, зеленоватыми, широко расставленными глазами. А страну-то вытащил.
Вечерние прогулки мимо черно-зеленых апельсиновых рощ, поблескивающих глянцевой листвою.
Надменные пятизвездные отели – в тишине и пальмах. Гостиничный турчонок все трет и трет и без того зеркальные стекла холла.
А шведский отец со своим шведским сыном все ведут нескончаемую беседу – о музыке, о созвездиях, об устройстве водяного насоса – то за столиком, то у борта бассейна в воде, то взбираясь по крутым ступеням к разрушенной крепости, улыбчиво и серьезно. И не могут наговориться.
Прав старина Гераклит. Дважды никто не войдет в одно и то же Средиземное море.
...
Кемер – Фазелис – Мармарис – Эфес – Аланья Август 1997, август 1998
провинция
слишком приспособилась к империи
и ей нелегко оживать
отложения великой эпохи почти скрыли губернский город только оперный театр торчит
и все ж
администрация губернатора
ведет трудные переговоры с баронетом сэром Импеем
Мурчисоном
членом Королевского географического общества
об учреждении Российско-британской палеонтологической
компании
в центральном универмаге
выставлена коллекция розовых платьев
с зелеными поясками
не утратившие веры в эволюцию
бедно одетые позвоночные приходят в библиотеку
послушать стихи
и налаживается производство электродрелей
а в облупившемся прозоровском доме
обосновалась мастерская металлических дверей и решеток
с красивым именем «Благоьвѣстъ»
…три сестры из педагогического мечтают о торжестве
мезозоя
и восклицают: «В Москву! В Москву!»
но отъезжающих в столицу
провожают на вокзале духовым «Прощаньем славянки»
как на войну...
[1]
На восьмой день Господь создал доллар.
И в придачу к нему – сосиску в булочке.
«Наслаждайтесь Америкой!» – бросил мне толстый негр иммиграционной службы в аэропорту, возвращая паспорт и отмыкая никелированную калитку для прохода.
Я вынырнул из-под земли на углу 8-й авеню и 42-й улицы, где со ступенек автовокзала сходит увековеченный в металле водитель автобуса со своим кондукторским саквояжиком в руке. И обнаружил, что Вавилонская башня все же была достроена – из кирпича, стекла, бетона – и вся увешана рекламой.
Только ее все время чинят: рабочие в люльках повисли вдоль стеклянных стен, у подножия долбили асфальт, и какой-то ковбой в широкополой шляпе перекидывал мешки с цементом, не выпуская сигары изо рта. Тут были люди всех рас и народов, и кудрявый Портос приветствовал собрата, помахав рукой из кабины подъехавшего автокрана.
Нью-Йорк улыбнулся мне широчайшей улыбкой рекламного дантиста.
И сама мадам Тюссо доброжелательно заглянула мне в лицо, примериваясь острым восковым глазом.
Америка была занята собой.
Меж уходящих в небо стен катили грузовики, похожие на паровозы.
Небольшие толпы переминались с ноги на ногу у еще не открывшихся театральных касс.
Чуть в стороне грустил кирпичный заброшенный небоскребик с ржавым водонапорным баком на крыше.
Пьяный негр, сидя на синем пластмассовом ящике из-под лимонада, проповедовал самому себе.
Видимо, у них это в крови, потому что минутой позже я повстречал другого, в длинном зеленом плаще с крупной белой надписью: «Настоящий Бог».
Ясноглазая американка поцеловала своего ясноглазого американца и облизнулась, будто съела мороженое.
Необъятные в заду джинсы прогуливали крохотные, с подворотами, джинсики.
Воспроизведенная в золоте боттичеллиевская Венера в витрине шикарного магазина демонстрировала на себе модные тряпки.
Официант за стеклом бара бережно протирал бокалы, поднося их к глазам на просвет.
А два других, крахмальных, при бабочках, везли на каталке по улице двухметровый, обернутый в целлофан и перевязанный розовой лентой сэндвич для какого-то парадного ланча – как торпеду.
И весь этот уличный шум и гам покрывал вой пожарных не то полицейских сирен, долетающий аж до верхотуры Эмпайр Стейт Билдинг.
Америка, всякий знает, провинциальна.
Американцы – трогательны.
Клянусь, но знаменитый «Гитарист» Эдуарда Мане в Метрополитен-музее обут в белые кроссовки.
Американские вещи, за исключением небоскребов, ненастоящие, будто взяты из детской. Пластмассовые, бумажные – посуда, одежда, мебель, – раскрашенные в детсадовские цвета.
Даже автомобили кажутся воспроизведением коллекционных моделек, а не наоборот.
В Америку, по крайности в эту ее часть, перебрались из Европы самые шустрые, но не самые породистые люди.
У женщин скорее крепкие, чем красивые ноги.
Масса очаровательных детей, но куда они деваются, повзрослев? Вероятно, пересаживаются в автомобили.
Другое дело африканские вожди, которых завозили целыми трюмами. Физически красивыми мне показались, главным образом, негры – правда не те, что слоняются в кирпичном Гарлеме и больше смахивают на вангоговских едоков картофеля, а чистенькие и отутюженные, с 4-й и 5-й авеню.
И уж точно лишь негритянки обладают в жизни фигурами, какие проповедует реклама женского белья.
Независимо от цвета кожи, американцы – люди с чувством достоинства.
«Рентгенологом» называет себя не только врач, но и человек при аппарате, просвечивающем портфели и сумки на входе в охраняемое здание.
А вообще-то быть американцем значит быть человеком со счетом в банке.
В обеденный час сидеть за соком в искусственном воздухе кафе.
Без конца говорить по мобильному телефону.
И платить, платить, платить по счетам.
В шестичасовом автобусе я понял, что Нью-Йорк – это город клерков.
Он потому-то и лезет вверх, что уже в трехстах метрах от Бродвея начинается форменное захолустье. А сама эта часть страны на 9/10 одно нескончаемое предместье, как между Люберцами и Панками.