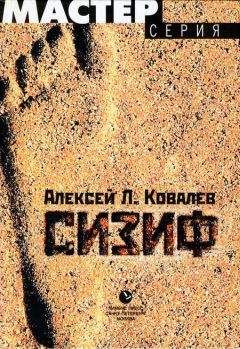Даже опускавшиеся сумерки не могли скрыть мертвенного выражения ее лица с черными пятнами вместо глаз. Великий акт разрешения от бремени случился с ней каким-то мрачным и устрашающим образом. Она двинулась к дому, и сразу стало заметно, что девочка едва держится на ногах. Однако никто из столпившихся у ворот не шевельнулся, чтобы ей помочь. Удержал себя и Сизиф — здесь были ее отец и так не в меру тревожившаяся о ней мачеха. Салмоней, задержавшись лишь на мгновение, зашагал навстречу дочери, так и не выпустив из рук тяжелого узла и крепкого дорожного посоха. Они не успели еще сойтись, когда Сизиф понял наконец, что совершаются одновременно два события. Ясно стало, и что вызывает такое отчаяние Сидеро. Салмоней оставлял дом.
Это было одним из самых сильных потрясений в его жизни — наблюдать, как молча, не глядя друг на друга, расходятся, не встретившись, отец и дочь, плотно окутанные каждый собственной скорбью и влекомые собственной судьбой, и как в точке несостоявшейся встречи остаются стянутыми в узел не только их судьбы, но давно забытые деяния всех братьев, нанесших некогда обиду мелкому речному божеству; случайное проклятие униженного ими старика, обретшее силу предсказания; возмездие более важного владыки вод, павшее на самое слабое звено в семье; то же возмездие, искаженное в умах недалекого люда, метившее мимо цели, но благодаря непостижимой связи причин и следствий, включая злую волю обманутой в своих ожиданиях женщины, обрушившееся все на ту же жертву; отсутствие царя, предпочетшего не вмешиваться в драму, разыгрываемую богами; его собственный несвоевременный поход в Дельфы — будто боги намеренно отослали его, чтобы легче было вылепить гибельную легенду… В зыбком свете факелов, которые начали вспыхивать один за другим, Сизифу показалось, что он различает невидимые тугие струны, пронизывающие бытие, соединяющие небо, землю и морскую пучину, богов и людей, и ощущает тягу, уйти от воздействия которой никому не дано. И эта же неумолимая сила побуждала его прислушаться не к собственным порывам, а к ее всепроникающему гулу и не пытаться что-либо исправить, соединить то, чему суждено развалиться. Пора! — сверкнула в его мозгу ясная и завершенная мысль, и тяжело стукнуло ей в ответ упавшее сердце.
Сизиф сумел все-таки подхватить лишившуюся сил девочку и, унося ее в дом, слышал, как отчаянно взывала к мужу Сидеро, умоляя его одуматься, не навлекать на себя еще большего гнева богов, и так не очень благосклонных к их браку. Короткий ответ Салмонея предлагал ей не тратить время и собираться, если она все еще считает себя его женой. Величественный выход за ограду был пока только демонстрацией его решимости — вместе с двумя десятками последователей Салмоней располагался на ночь лагерем неподалеку от царского дома. На рассвете они должны были отправиться дальше, следуя какому-то внушению своего вождя, и Сизиф не терял надежды узнать у брата, что же он задумал на этот раз.
Пока нянька купала Тиро, он оставался поблизости, догадываясь, что его помощь может еще понадобиться. Впав в забытье, девочка не слышала причитаний и расспросов старухи, но вдруг очнулась, стала вырываться из нянькиных рук и звать Сизифа. А потом, будто они вернулись на много лет назад, Тиро, съежившись у него на коленях и спрятав на его груди мокрое лицо, рассказывала, как страшно поступил с ней сын Океана. Да, да, да, это был не юный и прекрасный речной бог Энипей, с которым у Тиро начали было налаживаться нежные отношения. Приняв его образ, ее соблазнил сам всемогущий Посейдон и, совершив непоправимое, надругался над свой жертвой, представ в собственном косматом и пенном облике, шумно веселясь при виде ее растерянности и угрожая гибелью, если она вздумает хвалиться участью избранницы.
Тиро ничего не понимала. Осуществилась ее тайная мечта, но предмет девичьих грез оказался не только смертельно опасен, но — страшно вымолвить — не благороден. Тем временем мучительные превращения вокруг нее продолжались. Мачеха, которой она до тех пор боялась больше всего на свете, стала заботливой матерью, а в одно из тяжких мгновений ей почудилось, что легче поверить в коварство близкого, но такого простого и смертного старшего друга, чем постичь уродство и жестокость великого бога.
Сидеро охотно согласилась ей помочь и позаботилась о том, чтобы никто не заметил, как юная мать, кусая губы и не издав ни стона, родила близнецов. В ту же ночь она вывела Тиро за ворота, и та с младенцами на руках ушла далеко в горы, где в глухой, заросшей пещере оставила новорожденных братьев, смирившись с тем, что их появление на свет было ошибкой, божеской или человеческой.
Трудно было бы объяснить, откуда взялись у нее силы на эту страшную дорогу впотьмах с живой ношей, избавиться от которой можно было лишь у самой цели. Но еще труднее оказалось выполнить до конца задуманное, и Тиро целый день просидела, кормя и баюкая младенцев, прежде чем рассудок ее не померк и она не перестала ощущать тепло и холод. Только тогда она отправилась обратно, уже не слыша, как обиженно и требовательно вопили ей вослед малютки. Но как ни слаба она была, девочка увидела и отчужденную фигуру отца, которому ни к чему было спасение, доставшееся дочери таким чудовищным способом, и знакомую прежнюю ненависть, сверкнувшую в мимолетном взгляде мачехи, и поняла, что вновь обманута.
Гладя по щекам вернувшегося к ней друга и опекуна, забывая о собственных слезах, девочка горячо убеждала Сизифа, что никуда не надо ходить, что судьба малюток снова в руках бога, сначала лукаво пролившего свое семя, а затем безжалостно отрекшегося от него, и что даже злобная молва, которой не дано отразить истинную причину несчастья, сразу уймется, получив такое простое разрешение, а скоро и вовсе забудется. Единственное, что повергало в отчаяние несостоявшуюся мать, — это собственное предательство по отношению к дяде, дурная слава, которая ему по ее вине грозила, и боязнь холодного одиночества впереди.
Сизиф слушал доводы так нескладно повзрослевшего ребенка с недоверием, но при всей их бесчеловечности они совпадали с тем мимолетным откровением, которое он испытал во дворе малое время назад. Не следовало ничего исправлять, наоборот, нужно было сделать то, что в его силах, чтобы довести опустошение до конца.
Много лет спустя ему предстояло открыть, что, придя с Тиро к согласию, они недооценили и изобретательную живучесть людской памяти, и кажущуюся простоту божественных поступков. Молва со временем не то что не иссякла, а удвоилась, закрепив в бесчисленных повторениях историю о двойне, рожденной Тиро от Сизифа и умерщвленной матерью, чтобы спасти своего отца от предсказаний Дельфийского оракула, и о второй двойне, рожденной ею от Посейдона и брошенной в горах или пущенной к погибели по течению реки. Провидение же, напротив, обнаружило себя довольно сострадательным образом, сохранив действительно покинутых Тиро младенцев и даже вернув Нелея и Пелия матери, когда они подросли.
Но в тот момент, которому мы являемся свидетелями сейчас, Сизиф всеми силами души возвращает племяннице свою любовь и поддержку, стараясь одновременно погасить в сознании застрявший образ, ярче всего запечатленный в нем исповедью Тиро, — образ бесчинствующего и глумливого бога Посейдона.
Успев многое пережить и даже ужаснуться неумолимой силе, правящей мирозданием, своими глазами видя, как легко она комкает и обрывает людские судьбы, Сизиф тем не менее быстро забывал тогда все, что могло бы потревожить его душу. С уходом из дома, чудесным образом совпавшим с обретением любимой женщины, жизнь его начиналась сначала.
Глубокой ночью выходя во двор, чтобы встретиться с братом, он не испытывал больше гнетущей потребности объясниться или постараться понять, что движет Салмонеем, уж не говоря о том, чтобы отговаривать его от новой затеи, сколь бы ни была она бессмысленной. Он готов был даже с сочувствием выслушать фантазера и проводить его в путь по-братски, как того требовали воспоминания о прежней привязанности — она была, пожалуй, единственным, с чем ему жаль было расставаться.
Костер, у которого сидели Салмоней и несколько его бодрствовавших сподвижников, горел ярко, и Сизиф впервые заметил, что борода у брата совсем поседела. В этой голове должно было твориться многое, о чем и не подозревали ни те, кто наблюдал за причудливой деятельностью Салмонея, ни те, кто в ней участвовал. Люди потеснились, и Сизиф сел рядом с братом. После недолгого, неловкого молчания он сказал:
— Я тоже ухожу. Если ты думаешь, что таким образом освобождаешь мне место, самое время передумать.
— Что ты такое мелешь! — отвечал Салмоней знакомым низким голосом. — Как это можешь ты уйти, бросив отца и мать и остальных эолийцев? А впрочем, какое мне дело. Могу даже взять тебя с собой по старой памяти.
— Куда же лежит твой путь?