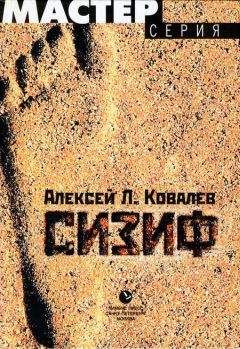— Я тоже ухожу. Если ты думаешь, что таким образом освобождаешь мне место, самое время передумать.
— Что ты такое мелешь! — отвечал Салмоней знакомым низким голосом. — Как это можешь ты уйти, бросив отца и мать и остальных эолийцев? А впрочем, какое мне дело. Могу даже взять тебя с собой по старой памяти.
— Куда же лежит твой путь?
Салмоней переглянулся с сидевшими вокруг, вроде советовался, стоит ли открывать простому любопытству цель, которая так их манила, что заставила сняться с места два десятка мужчин, у большинства которых дома оставалась семья.
— Давно ты не спрашивал, чем занят Салмоней. Не боишься, что я тебя сманю? И позабудешь ты свою Меропу.
— Ты знаешь о Меропе?
— Он думает, что все вокруг ослепли, — сказал Салмоней своим спутникам, и те с готовностью гоготнули. Но эта насмешка распустила напряжение, повисшее вокруг костра с приходом Сизифа. — Слыхал об Архомене?
— Да, если это вотчина нашего Афаманта, город, что лежит на пути к Фивам. Я оставил его в стороне, когда шел в Дельфы. Местный люд называет его по-другому — Орхомен.
— Ничего примечательного нет ни в Фивах, ни во всей той стороне, включая Афины, а то и сами Дельфы. Все то же однообразное житье. А вот на западе есть место, где люди приготовились жить по-новому и только ждут таких же, как они сами. Зовется это место Архомена, туда мы отправимся утром.
— Что же мешает этим людям начать новую жизнь? Чем вы собираетесь им помочь?
— Нет, мальчик, я пошутил. На этот раз я не хочу смущать твой покой. Остаешься ли ты править Эолией, уходишь ли, как сказал, — я не стану сбивать тебя с толку. Тем более что пришлось бы начинать от самого яйца, чтобы пояснить, куда мы идем и зачем. Стой, Гилларион! — обратился вдруг Салмоней к одному из сидящих у огня. Тот уже некоторое время издавал прерывистое мычание и одновременно притопывал босыми пятками. — Повремени, если можешь, и побереги себя, нам еще пригодится твоя сила.
Но человек его уже не слышал. Сидевшие рядом с Гилларионом вскочили на ноги и сгрудились по другую сторону костра. Вглядевшись повнимательнее, Сизиф понял, что это пришелец. А когда тот положил на свои подпрыгивавшие колени руки, увидел, что у него не хватает нескольких пальцев, один же был завязан грязной тряпицей.
— Ну, значит, так тому и быть, — сказал Салмоней, отодвигаясь к остальным и уводя за собой брата. — Смотри и слушай. И не говори потом, что снова, мол, Салмоней невесть что сочиняет.
Беспалый тем временем поднялся и начал медленно боком перемещаться, совершая при этом ногами и руками плавные замысловатые движения, будто ткал невидимую паутину. Оказавшись шагах в десяти от костра, он стал тем же образом возвращаться и только теперь, казалось, услышав прежний окрик Салмонея, подхватил его и забормотал сквозь стиснутые зубы:
— Стой! Стой! Замолчи! Завяжи узлом язык!
Глотку войлоком заткни!
Губы жилою зашей!
Один из наблюдавших в изумлении зацокал языком, и этот звук тоже был тотчас подхвачен бесноватым:
— Чмок! Чмок! И молчок!
Шею затяни пенькой!
Зубы на зубы надвинь!
Вязкой глиной рот забей!
Вдруг он замер и несколько мгновений оставался неподвижным, а затем тело его пронзила судорога, что вновь напомнило Сизифу о пауке, ждавшем добычи у края своей ловушки и теперь содрогавшемся вместе со своей хитроумной сетью от яростных попыток жертвы освободиться. Вскоре конвульсии прекратились, и тогда руки и ноги Гиллариона возобновили плавный танец. Теперь, однако, он оставался на месте и бережно поворачивал неведомую добычу, закутывая ее в липкую паутину. Завершив работу, он в бессилии опустился на колени, руки его повисли, и голова упала на грудь.
— Теперь спрашивай, — прошептал Салмоней. — Называй его Всеведущим.
— Всеведущий, похоже ты одержал победу над кем-то? — произнес Сизиф, с трудом шевеля онемевшими губами.
— Все здесь, — отвечал Гилларион неожиданно бодрым голосом. — Все боги — в коконе, живые, но бездыханные.
Туманный, невообразимый смысл его слов пугал меньше, чем прежнее исступление, но Сизифа не оставляло ощущение тревоги, предчувствие каких-то более определенных слов, которые нельзя было ни произносить, ни выслушивать в присутствии других людей.
— Знаешь ли ты, Всеведущий, куда направляются эти добрые люди?
— Сам себе отвечаешь, раз зовешь меня по имени. Но «знать» и «сказать» — не одно и то же.
— Тогда не скажешь ли?
— Сказать легко, когда боги умолкли. А «услышать» и «уразуметь» — опять вещи разные.
Испытание, которому подвергался Сизиф, не доставляло ему удовольствия. Он отнюдь не готов был состязаться в чем бы то ни было. Душа его была размягчена согласием Меропы и примирением с племянницей и братом. И если бы речь шла только о том, чтобы не уронить достоинства перед Салмонеем и его спутниками, он, вероятно, сдался бы, объявил себя неспособным понять беспалого и отошел в сторону, предоставив остальным внимать его пророчествам. Но ответы Гиллариона, которые на самом деле были вопросами, тот обращал только к нему, Сизифу, нисколько не считаясь с присутствием посторонних. Сизиф понял вдруг, что спрашивает оборванца совсем не о какой-то несуществующей Архомене, и тот готов ему ответить.
— Говори, я пойму, — поспешно продолжал он.
— Безумие постигло Архомену, — начал беспалый, — фальшивое безумие, которое не дано людям отличить от настоящего. И в безумии этом губят они своих детей и друг друга, внушая отвращение к себе и страх перед всесилием богов. А вся вина их в том, что не в пору стали говорить и молчать не вовремя. Столь благодатным краем стала Архомена, таким мудрым и могучим вырос там народ, что зависть обуяла тех, кто думает, будто правит небом и землей…
Сизиф подумал, что ослышался, и мельком взглянул на стоявших рядом. Они жадно внимали каждому слову, кто-то даже согласно кивал. Совсем недавно он воочию наблюдал, как сокрушительна может быть верховная месть, да и рассказ бесноватого свидетельствовал о том же. Не укротил же он в самом деле олимпийцев, стянув их своей воображаемой сетью. А если даже и так — не вечно же удастся их удерживать. Ему захотелось бежать стремглав, успеть как можно дальше оказаться от этого места, когда иссякнет зловещая магическая сила этого бродяги и боги обретут свободу наказать вольнодумца вместе с его легкомысленными слушателями. Но в это время он ощутил на своем плече тяжелую горячую руку брата.
— Совсем немного оставалось архоменийцам, — продолжал Гилларион, — чтобы самим стать истинно безумными, взглянуть без страха на богов и их подлинную силу и подняться с ними вровень. Но не спешили люди, не зная за собой греха, зла никому не желая, и боги явились загодя, обратив вспять людские пути, смятением исказив несозревшие души, нездоровьем ума предупредив здравое безумие. Прежнюю Архомену теперь не спасти, но те, кто туда попадут в срок, будут проворнее.
— Что это, Салмоней? — шептал Сизиф брату на ухо. — Вы сами-то не лишились ли ума?
— Ты не видел его полной силы, — отвечал Салмоней. — Где он пальцы потерял, как думаешь? Нет, с ним и самому Зевсу не совладать. Когда он по-настоящему берется за дело, может сам себе палец откусить, и тут уж, поверь мне, я это видел — от него огонь и гром небесный отскакивают.
— Он, значит, оттуда, из Архомены?
— Нет, дома своего у него давно нет. Говорят, что родился во Фракии и бродит по всей Греции.
В уверенном речитативе беснующегося и правда угадывалась редкая власть. Он удерживал ее при себе, не стремился использовать на подчинение других, и тем его проповедь отличалась от вдохновенных небылиц Салмонея, немедленно увлекавшего невинные души. И вместе с тем речь Гиллариона завораживала, пожалуй, даже сильнее. А если он оставлял тебе время подумать, то только затем, чтобы ты ясно осознал: решившись следовать за ним, уже не сбросишь наваждение и не свернешь с пути, пока не достигнешь названной цели вполне. Нашел наконец свое место и Салмоней, который по сравнению с бездомным и нищим оборванцем казался благопристойным трезвым мужем. Он глубже других мог проникнуться смыслом видений вещуна и, в качестве посредника, устроить земные дела по его фантастическому плану.
Гилларион выпрямился, поднял лицо и несколько раз с силой провел по нему изуродованными руками.
— Не бойся, юноша, — обратился он вновь к одному Сизифу. — Их уж нет здесь более. Разлетелись каменные куклы. И не их страшиться следует. Всю кожу обдерешь, сюда к вам проталкиваясь, и нарастишь новую, и вновь слезет, и опять вырастет, и много раз, пока не станет жесткой мозолью, и тогда перестанешь помнить о белом цвете и безмолвии, а страшнее этого ничего не бывает.
— Пришла, пакостница? — произнес Салмоней, и все увидели Сидеро, давно уже понуро стоявшую в отдалении. — Возьми вон одеяло и ложись спать. А с завтрашнего дня чтобы ни слова о старом доме.