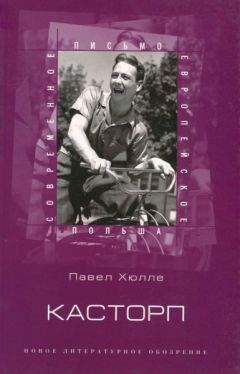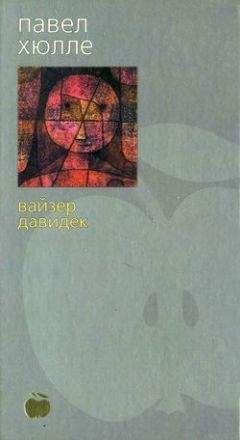VI
Когда он сел в самом углу веранды и заказал портер, соседний столик еще пустовал. После первого, небольшого глотка, покуривая «Марию Манчини», сизый дымок которой быстро рассеивался полуденным бризом, полузакрыв глаза, Касторп погрузился в приятное оцепенение. Сквозь немолчный шум моря, точно сквозь музыкальный фон, в его сознание пробивались отдельные звуки: гудки прогулочного кораблика, веселые детские голоса, перекрикивания кельнеров, звон монеты, кружащейся на каменной столешнице, наконец, мелодия одного из популярных вальсов Штрауса, которую заиграл струнный ensemble на подиуме кафе. Именно тогда он услышал фразу, произнесенную по-французски с показавшимся ему незнакомым акцентом:
— Сколько еще мне мучиться?
Минуту спустя другой голос, на сей раз мужской, ответил тоже по-французски:
— Сейчас я не стану просить об отставке.
Они сидели за соседним столиком. Мужчине было лет тридцать пять. Он был в костюме английского покроя и панаме, вероятно из-за чересчур широких полей которой казался коренастым. В тот момент, когда Касторп посмотрел в их сторону, мужчина наклонился к своей спутнице и, обхватив ее запястье, добавил:
— Положение серьезное. Это политика.
Только теперь, когда, решительно вырвав руку, женщина невольно подняла голову, Касторп увидел ее лицо. Что-то позволило ему сразу же интуитивно определить славянский тип красоты этого лица, в котором едва заметно ощущалось далекое дыхание Востока.
— Ненавижу политику, — сказала она. — Ты знаешь, как сильно. Даже в письмах я не могу этого выразить.
К их столику подошел кельнер. Мужчина обратился к нему по-немецки с мягким певучим акцентом, тем не менее резко отличавшимся от того, который, по крайней мере здесь, считался специфически польским. Дожидаясь заказанных шоколада и пльзеньского, пара не обменялась ни словом, будто они пришли сюда лишь затем, чтобы с веранды курхауса полюбоваться морем. Но и после того как на столике появились напитки, беседа не стала оживленнее. Похоже было, ссоры, угрозы разрыва, многократные обещания, наконец, радость от владеющего ими чувства у них уже позади, и даже не имевший опыта в подобных вещах Касторп догадался, что сейчас они только повторяют то, о чем не раз говорили в гостиничных апартаментах или во время прогулки по берегу моря. Отставив едва початую кружку, мужчина сказал:
— Прости. Зря я утром раскипятился.
На что она ответила:
— Я же тебя ни в чем не упрекаю.
— Зато я себя упрекаю. За все. Даже за то, что я такой, какой есть. Порой слишком часто. Понимаешь?
Неприкрытая откровенность, с которой мужчина анализировал свое душевное состояние, просто-таки возмутила Касторпа. То, что он говорил по-французски, вероятно полагая, что никто вокруг не знает этого языка, ничуть его не оправдывало. Слушать такого рода излияния столь чувствительному молодому человеку, как Касторп, было стыдно: он смутился гораздо больше, чем если бы увидел этих двоих целующимися в тени аллеи. Не став дожидаться кельнера, он отсчитал нужную сумму за портер, положил деньги на столик и направился к променаду. Уходя, он еще увидел ее руку: затянутая в шелковую перчатку, она вначале поправила панаму на голове продолжающего без умолку говорить мужчины, чтобы затем нежно коснуться его темных, ровно подстриженных волос на затылке, чему сопутствовало произнесенное со вздохом искреннее признание:
— Как же я люблю все эти твои глупости — ты даже не представляешь как!
Возмущение улеглось не сразу. Касторп решил отправиться на долгую прогулку по берегу моря до самого Бжезно, откуда в его район шел прямой трамвай. Правда, легкие полотняные туфли совершенно не годились для похода по пляжу, но разве утром, отправляясь в политехникум, он мог предвидеть такой поворот событий? Шагать в одиночестве, вслушиваясь только в монотонный шум волн и крики чаек, идти так, ощущая под ногами хруст раздавленных ракушек, поскрипыванье песка, приятную мягкость пляжа, брести по краю пускай лишь кажущейся бесконечности — это казалось ему самым подходящим и единственным из всех возможных сейчас занятий. С первых же шагов он почувствовал необычайную легкость, как будто воздух на берегу залива оказывал меньшее сопротивление, чем в городе. Разумеется, с точки зрения классической физики — а иной он не знал — это было просто невозможно, однако с другой стороны, — размышлял Касторп, перепрыгивая через студнеобразное пятно медузы, — с другой стороны, можно ли с уверенностью исключить существование таких особых мест? Утверждать, что их нет нигде — то есть не только здесь, на Земле, но и во всем преогромном космосе? Он вспомнил, что на последней лекции профессора Ганновера одно из отступлений касалось à rebours[21] подобной проблемы; термин «особость» был несколько раз повторен вкупе с фамилией английского астронома. Более ста лет назад тот разработал теорию звезды, не излучающей света. Такое представлялось просто абсурдным, смешным, противоречащим здравому смыслу, черное солнце нельзя было даже вообразить, а уж тем более наблюдать, но аргументы Джона Мичелла были обезоруживающе логичны. Кто-то из поэтов — Касторп тщетно пытался вспомнить его фамилию — говорил о «кубке, полном темного света»[22]. Эти слова свидетельствовали о проницательности автора; астроном выразил то же самое с помощью последовательности цифр и уравнений — вот и доказательство некой общности поэзии и математики. Возвращаясь же к загадкам природы: если определенная «особость» возможна где-то там, в невообразимо огромных пространствах космоса, то иная по своим свойствам, но тоже «особость» могла иметь место и здесь, на берегу холодного моря, по которому он шел на удивление легким шагом, вдыхая запах водорослей и сырого песка.
Касторп отдавал себе отчет в том, что эти рассуждения, хоть и опиравшиеся на серьезные предпосылки, сумбурны и не могут привести к верным выводам, однако служили они совсем другой цели: как черная звезда, так и феномен морского воздуха позволяли не думать о тех двоих, оставшихся на веранде курхауса. На полдороге к Бжезно, близ рыбацкого поселка, Касторп, впрочем, отвлекся от своих размышлений. Наступив на что-то, он остановился и поднял кусок янтаря размером с грецкий орех; внутри покоилось насекомое, похожее на шершня. Держа в двух пальцах янтарь и разглядывая его на солнце, Касторп услышал явственную, хотя и заглушаемую шумом волн мелодию. Несмотря на кажущуюся беззаботность, она была какой-то очень трогательной, словно открывающийся из окна поезда пейзаж осенних полей, перерезанных сизыми дымами костров. Пела молодая девушка, которая, забрав у мужчин в лодке полную рыбы корзину и поставив тяжелый груз на правое плечо, несла его по широкой полосе пляжа. Босые ступни на каждом шагу с поскрипываньем погружались в песок, льняная юбка сдерживала движения, а свободно завязанный на голове платок сползал на глаза, мешая смотреть. Тем не менее, а возможно, именно поэтому девушка пела с такой самозабвенной радостью, будто все тяготы бытия были ей нипочем.
Песня, слов которой Касторп не понимал, заставила его замедлить шаг и тут же направила мысли на веранду курхауса. Ему почудилось, что случайно подслушанная там фраза, произнесенная слегка дрожащим, с хрипотцой голосом, то самое «Сколько еще мне мучиться?» адресована непосредственно ему и место ей — в глубине таинственного колодца, где память хранит смутные, расплывчатые картины, оживающие на краткий миг, чтобы затем вновь померкнуть и продолжить свое скрытое хрупкое существование.
В комнате матери пахло камфарой и болезнью, доктор Хейдекинд осторожно притворил за собою дверь, а отец, покинувший комнату минуту назад, молча сел за рояль и заиграл самую печальную песню из всех, что когда-либо были написаны. «Как ты можешь сейчас, когда она… — укорил его дедушка Томас. — Это же просто неприлично…» Именно так сенатор Томас и сказал: «неприлично», однако отца это ничуть не смутило, он продолжал играть с каким-то страшным автоматическим самозабвением, пока вышедший из комнаты матери доктор Хейдекинд не произнес: «Embolia cerebri, увы…» И тогда в квартире воцарилась глубокая тишина, прерываемая лишь тиканьем мейсенских часов да тарахтеньем пролетки за приоткрытым окном. Отец уже никогда больше не сел за рояль, с тех пор он целые дни проводил запершись в своем кабинете, а на его письменном столе росла белая гора корреспонденции, присылаемой из конторы, где он вообще перестал бывать. Однажды — незадолго до Рождества — Ганс Касторп увидел его у камина: стоя в небрежно наброшенном на пижаму шлафроке, он швырял в огонь неразрезанные конверты, а заметив устремленный на него пристальный взгляд сына, тихо проговорил: «Дай бог, чтобы тебе никогда не пришлось, как мне… запомни…», будто в чем-то оправдываясь, хотя прозвучало это скорее как жалоба.