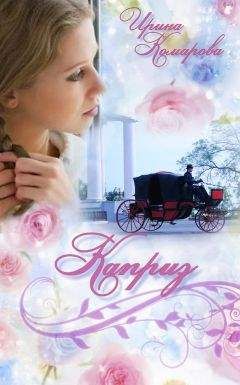Местом падения оказалась клумба; на клумбе росла садовая гвоздика, а рядом лежала чья-то шляпа.
И я куда-то забросила шаль. И надела шляпу. И сорвала гвоздику… И я ходила — голая ведьма — под лунным светом и напевала какой-то тарабарский мотивчик. Мне совсем не было страшно, я не боялась даже этих, ужасных ночью, разлапистых яблонь и кустов смородины — я ничего и никого не боялась, даже свою собственную Марию, а главное — босиком, пятками, пальцами — по земле, можно на четвереньках, можно содрать кожу, а луна, @, будет так же…
Не помню, сколько продолжалось все это, пока не ощутила где-то в районе седьмого шейного позвонка легкое прикосновение.
Это было его — и не-его, нео-его, Его-Не-Спящего там, в чужой даче, — прикосновение.
И мы пошли к пруду — ночью, под самыми настоящими звездами, завидуйте, два влюбленных в жизнь моральных урода, два независимых кретина, два оголенных нерва — и мы плавали в этой воде, смывая с себя все то, что можно смыть лишь однажды, потому что знали про грабли; а когда выходили, мокрые и беспорядочные, он сказал что-то мне на ухо — так тихо, что я еле расслышала — не знаю, может, какую-нибудь гадость, но, во всяком случае, он улыбался, я-то знаю, как он может улыбаться; и я почему-то подпрыгнула и почти полетела — наверное, в родне водились ведьмы-то — ведь я была в шляпе и с садовой гвоздикой — и мы оказались счастливы, мой мальчик — как индейцы до испанцев; но больше всего радовало нас наше молчание…
Когда умирает только одна Мария
Времена года сменяют друг друга; я, в отличие от них, с некоторых пор перестаю менять цвета волос. Мой мальчик также играет в индейцев; я же теперь могу не только не мешать ему, но и помогать — да что-то не хочется, не хочется, совсем ничего не хочется. Мой мальчик — где-то, я тоже — где-то, нам достаточно хорошо друг без друга, мы же — выродки, ублюдки, плесень, да на нас пахать надо… Не даемся. Сказки любим.
Так вот к чему весь этот бред: мне последнее время везет на красивых мужиков с красивыми машинами. Повторенье — мать ученья. Не думаю, что они сильно портят картину. Может, даже украшают.
Я веду с ними (не)продолжительные беседы при (не)ясной луне; обычно у нас ничего не происходит — ведь даже красивые мужики с красивыми машинами не застрахованы от моего «Скучно, батенька», — я стараюсь сказать это как можно мягче; говорят, мужская душа, если она вообще есть, совершенная Русалочка по ранимости. Бедные! Но один…
У него была белая-белая машина. Под цвет зубов. Я ему даже сказала, отодвинув на неопределенное время останки индейцев, что… короче, так и сказала. Он, конечно, обалдел, но испортил не все и не сразу — редкое, между тем и не тем, качество, на что и попалась.
Знала я его давно, Володю-то. Интересного уже тем, что его не интересуют индейцы. Знала-знала, подушку грызла-грызла, чуда ждала-ждала, да так ночевать и осталась.
— Машенька, — говорил он, немного отводя глаза. — Машенька…
Если бы не обстоятельства, я обязательно влюбилась бы, и никакие индейцы б не помешали, да только… как объяснить духовную импотенцию, как прополоскать внутренний second hand, как разгладить шнурки?
Продолжая любить и ненавидеть индейцев, я приходила к Володе. Он жил один, недавно развелся и жутко страдал. От бытовой неустроенности.
Я не понимаю, почему произошло так: он сам не понимал, но мои нечастые визиты делали его жизнь несколько приятней, а мою… — ха! На моей они просто не давали поставить точку, ставя точки над «ё». Я приходила к нему вечером; мы долго пили чай или что-нибудь более милое; иногда он бренчал на гитаре; нас связывало общее прошлое; нас связывала наша невозможность — наше желание — недостижимого.
Даже если мы и не любили друг друга, то это были именно вечера любви — на ночи я не оставалась, боясь испортить сказку — утренним.
Мы говорили, говорили, говорили; удивительно — было о чем! — и не приходилось усиленно подбирать слова; слова шли — горлом, как кровь, только вот не смертельная, — сами.
Он был очень красивый, Володя. Я не могу его описать, — но действительно — очень; иногда я любовалась — мне же везло на красивых мужиков с красивыми машинами…
Мы катались. Смеялись. Прожигали минуты. Параллельно индейцам.
Дело начинало принимать крутой оборот; я ходила растерянная до тех самых пор, пока не поняла, что мальчик-то играет во что-то другое, но тоже не мое, — и, как только дошло до меня сие, слегла я с больной головой.
«Почему?» — спрашивало правое полушарие у левого. «Потому!» — отвечало левое полушарие правому.
…Так я похоронила Марию. Марии больше не существовало. Остались просто индейцы и просто Володя. Наш мир безнадежно запараллелен. Едва ли я не смогу обойтись без них; едва ли не приснюсь им я.
Но иногда, в полнолуние, ко мне приходит еще та собака. Мы дружно смотрим в форточку; мы никогда не плачем. Мы знаем: Мария воскреснет.
Да кажется даже, она где-то тут уже топчется! Она мудра. Она сделает это не больно.
Страус — не птица…
Страус — не птица, зато быстро бегает. Как и мужчина. Именно эта особенность — бег по кругу (эллипсу квадрату, бермудскому треугольнику) с препятствиями и есть свойство, объединяющее мужчину и страуса. Страус не умеет летать — мужчина тоже не умеет летать: это неумение компенсируется (сублимируется) отличительной особенностью, этаким общим знаменателем двух видов не-птиц. У страуса небольшая голова и крепкие ноги. У мужчины также крепкие ноги, хотя и не такие, как у страуса; что же касается головы, то она может быть совершенно разных параметров и форм. В голове (внутри черепной коробки) мужчины может находиться как слишком много, так и слишком мало серого в-ва (мозга): серое в-во (мозг) мужчины, как и серое в-во (мозг) страуса находит идеальное среднее лишь в случаях, занесенных в «Книгу Ян» (автор П. Дхармейтер)[1] еще в прошлом столетии. В «Книге Ян» отмечается, что «идеальное среднее мозга мужчины зависит от экстремальных ситуаций на планете».
Чем ближе к катастрофе (экологической в т. ч.), чем ближе к войне или эпидемии, тем быстрее усредняется серое в-во (мозг) мужчины. В обычном состоянии он очень напоминает серое в-во (мозг) страуса — как по количеству извилин, так и по весу.
Руки у мужчин обычно сильные, жилистые, но бывают и исключения, особенно у артистических натур — тогда руки у мужчины не очень сильные и менее жилистые. Шея мужчины не такая длинная, как шея страуса, зато может поворачиваться в разные стороны абсолютно так же, что говорит о несомненном сходстве двух видов не-птиц.
Туловище мужчины может быть покрыто растительностью (тип волос), а может и не быть покрыто растительностью, чего, конечно, нельзя сказать о страусе — его туловище полностью покрыто растительностью (тип перьев). Но наличие туловища, опять же, подтверждает сходство страуса и мужчины.
Глаза у мужчин разные: серые, голубые, карие, реже — черные и зеленые, чаще — недоуменные, пьяные или злые, очень редко встречаются глаза проницательные или умные. Последний вид глаз отмечен в «Книге Ян» как исчезающий и требующий выведения в искусственных условиях. Это также указывает на общие черты мужчины и страуса, ведь именно П. Дхармейтер предлагает выводить в искусственных условиях страусиные яйца!
Вместо клюва у мужчин губы, но это не является его характерным отличием от страуса. Редкий мужчина говорит губами нечто членораздельное и использует их не по назначению, как-то: ест, пьет, рассуждает, плюется.
Некоторые мужчины применяют губы в качестве составляющей оральной эротики, что, в общем и целом, ведет к росту заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).
Мужчины, как и страусы, склонны оставлять после себя потомство. Но если брачный период страуса имеет место быть не чаще пары раз в год, то брачный период мужчины не ограничен: с наступлением пубертата начинается непрерывный поиск самки, с помощью которой он надеется втайне от самого себя самоутвердиться и избавиться от мокрой постели по утрам. Страус ищет самку обычно для продолжения рода; мужчина же ищет самку далеко не всегда для продолжения рода.
П. Дхармейтер утверждает, что как раз немногие мужчины согласны продолжить род, особенно в силу неустойчивой и нестабильной социально-экономической обстановки, а также из-за боязни, что самка привяжется к детенышу больше, чем к самцу (мужчине). Правда, отдельные особи стремятся иметь детенышей, но это не является общим правилом; они — в меньшинстве.
Страус всю жизнь хочет заботиться о своей страусихе; мужчина заботиться всю жизнь о своей женщине не хочет.
Снова ссылаясь на исследования П. Дхармейтер хотелось бы подчеркнуть, что мужчина (примат) не хочет очень многого, так как может лишь немногое.