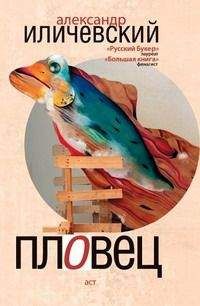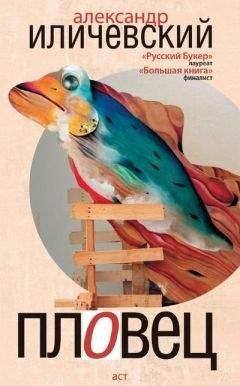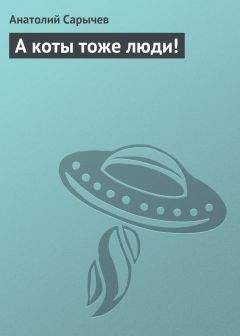Вспомнив о голубях, калека заржал, показал торчащие врозь крупные желтые зубы, стрельнул у мента закурить.
— Пойду покатаюсь, — снова гоготнул, заломил в зубах папиросу, выкрутил набок жилистую шею и — вразлет, широкими качками — загремел по хорошему асфальту.
Постукивая на трещинах, он кружился вокруг памятника. Очевидно, ночное катанье доставляло ему удовольствие отвлеченного свойства. Так люди с ногами иногда любовно относятся к пешим долгим прогулкам.
Калека забубенно кружил вокруг Котовского, мент давно уже ушел, в сочном от низких звезд небе, тая в белой мути тонкого месяца, карабкался спутник…
Наконец тачанка сорвалась с орбиты, инвалид подкатил к парапету и бочком, бочком, ловко стуча подшипниками о ступеньки, гулко выкатился в зал ожидания. Вынув культи из ремней, взлетел на диван и тут же откинулся, захрапел с открытом ртом. Бродяжка обеспокоилась, зевнула.
Я пересек пустую площадь. Круглорожий атаман артистично держался в седле, готовый гаркнуть, как некогда любил, объявляя экспроприацию: «Я Котовский!» Образ народного мстителя, бессарабского Робин Гуда, черта лысого, атамана ада высился в своей литой бесчувственности. Яйца жеребца тускнели в черных крыльях паха. Бессмысленная мертвенность, веселая нелепость времени снова пучила живот комкора.
Меня замутило, густая пустота прорвала грудную клетку, засосала под ложечкой, бездна будущего разверзлась передо мной. И понял я, чем напоила меня Маришка, каким белым лунным молоком отравила…
Я стоял перед бронзовым конем, наготове шарахнуться, когда тот стукнет, громыхнет, шагнет с постамента, зацокает тяжко к склепу хозяина… Лунный свет касался моего виска, лунный луч наползал на окошечко, и вот проник, лизнул бельмо — и ополовиненный атаман, очнувшись, длинно перебирая руками, подсучивая культями, выбрался наружу, вцепился в стремя и взлетел в седло…
В следующее мгновенье я уже мчался по темным улицам, окутанным садами, бился птицей в запертые калитки, слыша рысью приближающийся топот. Но вот за низким забором, за палисадником, заросшим высоко бурьяном, я увидел дом и голубятню, взмыл…
В душной комнате, под остывающей от дневного зноя крышей, тесной от комода, шкафа с рассохшимися створками, столика и баулов под вешалкой, воздух горяч и недвижен, в окно, открытое на раскаленную дужку месяца, нет ни малейшего дуновенья. Она лежит разметавшись, теплая сырость еще не высохшего полотенца, расправленного на спинке, касается ее закинутой за голову руки, лунный свет, омывающий меня всего, обливает тонкое ее запястье, грудь и полусферу лона. Смуглая кожа отсвечивает бархатной патиной, теплая бронза течет под моей ладонью…
Вдруг топот тысяч конских ног возрос, разбил мне позвоночник, однако стал стихать одиночными всадниками, один было потоптался перед калиткой, но вот захлопала, засвистала нагайка, лошадь всхрапнула и, ёкнув селезенкой, пустилась галопом.
Утром, когда Маришка откроет глаза, солнечный голубь слетит на подоконник, забурлит горлом, распушится, замрет, помаргивая полупрозрачным веком.
По дороге в Велегож со мной всегда что-нибудь приключается. Огромное или крохотное, но всегда такое, что потом не то чтобы не расхлебать, но несколько даже удивительно, что вообще выжил.
Вот как раз той весной и приключилось все мое будущее. Худо-бедно, но оклемавшись, могу теперь рассказать, как все было.
В середине марта первые солнечные деньки умыли мне душу. Весна, разгораясь, будоражила все вокруг. Тонким стал воздух: прорвав снежные тромбы, город звенел вовсю. Машины рассекали сияющее небо в лужах. Отраженные в них окна бились, взлетали веерами осколков, взметывались павлиньими хвостами солнечных клякс.
Пьянящий ветер врывался в рамы, как любовник под кофточку. Ноздри втягивали воздух — жадно, с трепетом, как кокаин. Вдохновленный бессознательной мечтой, я носился по городу, торопясь, изнывая от нетерпения расправиться с делами.
И вот поздним вечером, насилу со всем поквитавшись и даже успев заскочить в парикмахерскую, я был готов уже рвануть с Пресни на Можайку и оттуда по Кольцу на Симферопольскую трассу… Но подойдя к машине, ужаснулся ее внешнему виду. Не мыл я свою тачанку ровно зиму. Сейчас она стояла под фонарем — непознаваемо, беспролазно чумазая, как спаниель после охоты. Слой дорожной грязи придавал ей лишний вес и обтерханный вид раллийного снаряда. Я стоял перед машиной — обновленный весной, только что подстриженный и вымытый, обуянный мартовским воздухом, уже не сознающий ни в какую, что жизнь есть тьма, и нищета, и слезы. Я еще раз вдохнул родниковый воздух марта. На выдохе мне стало ясно: ехать так вот — не помыв коня — не то что грех, а преступленье. Машину надо было срочно в мойку — мыть, скрести и пылесосить. Пусть выеду поздно, хотя и заполночь, но в Велегож прибуду чистым, словно бы новеньким.
Единственная на Грузинах мойка работала до полуночи, и я решил, что за сорок минут успею. Мойка эта пособничала охраняемой автостоянке, располагавшейся на задворках заброшенной товарной станции, у начала бесконечного тупикового парка Белорусского вокзала. Жутковатое место. Приезжал я туда всегда по темени, как и сейчас. Так получалось. Никогда я не торопился возвращаться с работы. Одиночке дома делать нечего, кроме как спать. К тому же пробки рассасывались никак не раньше девяти. Пресненский вал — вообще гиблое место: толчея у пешеходного перехода к метро, цветочный рынок — торговцы-горлопаны, зазывалы у букетных фонтанов на обочине, автомобили покупателей наискось — кормой в бочину, не пройти, не то что проехать. Место, где Грузины и Белка-Ямские сталкиваются с Беговой улицей и 1905 года — клин с клином, суши весла, иди пешим. Место, где некое коловращение Москвы всегда — сквозь века принимает обороты, омут, тайну…
Пресня, Грузины, Ямские, сходясь, образуют своего рода московские Бермуды, которые не столь страшны, сколь таинственны. Неспроста именно здесь в течение нескольких десятилетий стояли в позапрошлом веке таборы цыган. Именно благодаря цыганам на Пресне возникли знаменитые злачные ресторации. Наследия разудалого забытья и сейчас сколько угодно в этом треугольнике, как нигде в Москве. Только здесь можно наткнуться на ласвегасовские театры, с золоченными слонами в натуральную величину напротив входа. И конечно, зоопарк — островок, провал, на дне которого, как в калейдоскопе, сгрудились осколки обитателей всего земного шара. Гам, стенанье павианов, всхлипы выпи и рыдание павлина, уханье шимпанзе, иканье лам и тигриный рык несколько лет сопровождали меня во время вечерних прогулок по Зоологическому переулку. Два года назад животных поместили в новые закрытые вольеры, и наступила тревожная тишина, которая хуже любого вопля: зверь затаился у площади Восстания.
Грузины замечательны двумя домами. Один — усадьба Багратиони, откуда по всему городу расползаются бронзовые чудища. Другой — дом Мирзахани, самый красивый новострой в Москве, чем-то напоминающий шедевры, обступившие Австрийскую площадь в Питере. Владение строительного магната представляет собой резиденцию по-восточному многочисленного фамильного клана. Выгуливая себя в той местности, я непременно выруливал к дому Мирзахани, чтобы пройти мимо парадной, отделанной искристым лабрадоритом. Пренебрегая крупнокалиберными взглядами пиджачной охраны, я вышагивал поребриком вдоль сквера, прямехонько на двух бронзовых гигантов — в объятья шебутных клоунов верхом на колесе. Я шел вдоль парковки, где можно было увидеть и «роллс-ройс», и «феррари», и «ламборджини», и ZХ, и коллекционный «мерседес» 1962 года — пока еще не переведенных «валетами» в стойло подземного гаража, спуск по спирали с торца, из-под яшмового фонтана.
Если был с приятелем, то непременно мы заходили в полуподвальный местный магазинчик — одному мне не хватало куража. Здесь в очереди у касс и вдоль стеллажей, если повезет, можно было наблюдать плавных див — наложниц дома Мирзахани. Невиданные туалеты, драгоценности, светящаяся, гладкая, как вода, кожа, неслыханные запахи иного мира — все это ослепляло и одурманивало. Невидимые, мы проходили мимо так, как проходят мимо приоткрытой клетки с тигром. Кротко косясь — на локоть, запястье, плечо — и только, мы вскладчину расплачивались за два пучка редиски и бутылку «Горьких капель». Выйдя на воздух, еще неся вокруг себя их образ и аромат благовоний, мы заходили в зоопарк и напротив вольера с застывшим хохлатым журавлем распивали саамскую водку, выделанную из особого заполярного моха, не ягеля, а какого-то редкого вида, каким олени лечатся от смертельных ран…
Да, вот такой в нашей местности стоит дом, не чета ни домам в Беверли Хиллз, ни сицилийским виллам… Сам я живу в 36-м доме на Пресне, окнами в технический палисад секретного завода «Рассвет», где взрывным методом отливают из титана лопасти то ли авиационных турбин, то ли гребных винтов подлодок. Кстати, в этом доме Маяк написал «Облако» и срифмовал Пресню с «хоть тресни». Дом я свой недолюбливаю и все мечтаю из него съехать навсегда в Велегож. Да, продать квартиру, переехать на натуру — рыбалка, картошка, охота — и когда закончатся гроши, а пенсия не светит или все еще не скоро, отправиться пешком в Иерусалим, побираясь, едва волоча, дойти — и попасть под копыта одного из всадников Армагеддона…