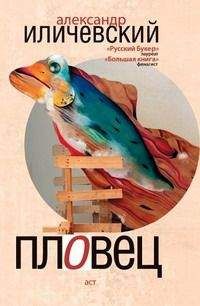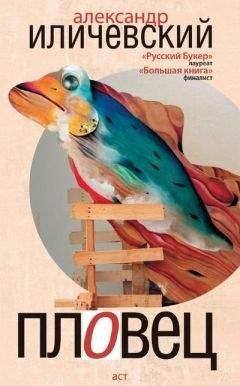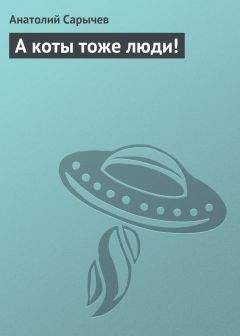И только тогда воздух ворвался в ее легкие.
XXIX
На следующий день бабушка Наташки отправилась к Федору сделать заказ на кашкалдака.
В огороде поливала грядки Полина.
— Здравствуй, Поля. Я до Федора, — объяснила Анна.
Анна прошла в сад.
В сарае Федор подшивал седло. На Анну не взглянул. — Да слышишь ли ты меня, Федор? Скоро на охоту пойдешь?
Федор молчал. Только задергалось у него плечо. Как у лошади птица мышцы.
Он понял — Наташка ничего не рассказала. XXX Встречаться с девочкой старик не перестал. Теперь она убегала в лес, в условленное место. Сама дерзость связи хранила их тайну.
Железное дерево в лесу росло, как животное, подымаясь, свиваясь, дуплясь многими стволами из земли. Они хоронились в шалаше под ним — как в утробе застывшего зверя.
Лес, птицы, звери наваливались на них — прорастали сквозь, расклевывали, глодали.
В тихую погоду он тайным дальним знаком звал ее на залив. С рассвета лежал под баркой, смотрел, как бегут в Мазендеран облака.
Она появлялась черточкой на берегу, ложилась в спрятанную лодку, накрывалась рогожкой. Оглядевшись, шел к воде, сталкивал лодку в ход между тростников. В тихую погоду птицы высыпали на залив. Протекая в шелестящей теснине, толкаясь длинно шестом, лодка выплывала в птичьи поля.
Она пахла водой — запах воды, запах согретого тростника, волглый запах корневищ тек по лицу, напитывал обоняние прохладой, вел взгляд к ней, растворял, поднимал, вливался в ноздри. Желание пахло тиной, тонким мускусом и селитрой: порох забил рубцы всех его карманов.
Когда он снимал с нее рогожку, все время боялся, что она там бездыханная. И еще ослепнуть боялся.
Птичьи стаи раскатисто кипели на заливе, занимая окоем полотнами пролета, сварами, всполохами перелетов. Птицы держались вокруг лодки на расстоянии выстрела. От центра серебрящегося круга отталкивался шест.
Девочка не подымалась со дна лодки. Она улыбалась, поджимала губы, вытянув вдоль бедер руки, не зная, куда их деть.
Старик укладывал на борта шест, ложился под него.
Постепенно птицы переставали бояться: за бортом слышались их зовы, переклички, бултыханье, хлопанье крыльев.
Он брал ее за руку, и долго, боясь шевельнуться, они лежали лицом в небо — на деревянной решетке, под которой ходила слабой течью вода, — лежали, поворачиваясь в кипенье, гуле, птичьем гаме.
Шест наискось тянулся через плывущий купол.
XXXI
И вот Федор стал гнать свою жену из дому. Придирался. Унижал. Она плакала. Один раз пошла прочь сквозь слезы, совсем потеряв голову. Переходила через дорогу, хотя ей и не надо было. Попала под машину. Военную машину, с погранзаставы. Солдата-шофера оправдало следствие.
Дочь Федора, срочно вызванная телеграммой Анны, забрала мать из больницы, увезла ее в Киров.
«Не хочет Федор меня. Хочет, чтобы сдохла», — сказала Полина дочери, застыла лицом.
XXXII
В Шихларе свадьба. Стоят шатры. Играет зурна. Цепкий тар аккордами карабкается в небо. Жарят на углях мясо. У Тамилы в кармане задыхается опутанный нитками голубенок. Ночью она разорвет его над простыней.
XXXIII
Два года горевал Федор. Приезжал к нему брат, ходил субботник. Федор прогнал сначала брата, потом — субботника.
Однажды зимой у калитки он увидел жену. Она стояла с чемоданом в руке и смотрела на свои окна. Он ввел ее в дом, ухаживал, поил чаем.
Полина молчала. Потом расплакалась, разговорилась.
А он сник. Поглядывал на нее.
Пошел, сел на кровать.
Она села напротив.
— Федор, Федор.
И тут он ударил ее. Сухой плач разорвал его лицо. Он ударил еще, теперь легче. Встав, она охватила его затрясшуюся голову, прижала к мягкому, провалившемуся животу.
XXXIV
Его не нашли в лесу у ручья с дырой в темени и пустыми глазницами подле туши убитого секача. Решили, что ушел в Иран, и разбирательство пограничники вели больше года, но дело так и осталось незакрытым. Тело исчезло, не нашли на той стороне ручья даже глаза. Пеночка клевала исхудавший, стекший глаз, поворачивалась к ходившим среди деревьев людям и, что-то пискнув, вновь обращалась клювом к незрячему выражению зрачка, который, вобрав блеск дня, сеть голых ветвей, осколки неба и очутившись наконец вне человеческого, никак не трогал ее крохотную птичью грацию. Лошадь торопко стояла над пустотой, отходила в сторону попастись, возвращалась. Секач щерил клыки, будто улыбался. Мальчик, мимоходом посланный отцом, вдруг выбежал с фермы, радостно полетел в Гиркан и на бегу — долговязый, с ломающейся, колесом разметанной под уклон походкой, — чтоб не забыть, не понимая слов, выкрикивал по-русски: «Чушка, где ручей забери, да! Чушка, где ручей забери, да!»
XXXV
Зима того года выдалась холодной. Фламинго выламывали палочные свои ноги из схватившегося ила. Сыпал крупный липкий снег. Птицы пытались взлететь, разбегались, хлопали крыльями, мешались со снегом, валились. Сытые шакалы, оглохнув, свободно вышагивали по заливу, вдруг приседая, чтобы выкусить из лапы ледышки.
В один из рикошетов своих шальных командировок я ехал на коротком дизеле из цыганских Бельц до атаманского Котовска.
Все окна в затаренном под завязку вагоне были выбиты мирной разрухой, как обстрелом в войну. Поезд увязал в духоте июльских сумерек, словно пьяная муха в подсохшей капле медовухи. Вагон гудел малоросским выговором, смехом, чуждый счастливый мир ехал вместе со мной, москвичом, затерявшимся между производственными посылами.
Вот уже месяц я был гоним по раскроенной стране с комбината на комбинат — нуждой спасти уникальное оборудование. Несколько сатураторов с числовым программным управлением наш институт пытался внедрить в сахарное производство перед самым развалом страны. Как молодой специалист, единственный в опустошенном отделе, я был обречен на выполнение приказа. Признаться, мне было по душе предаться этой авантюре — мотаться по Одесской области и Бессарабии, шарахаясь среди военизированного карнавала, царившего вокруг. На правом берегу Днестра ревели митинги, скандировавшие: «Чемодан! Вокзал! Россия!» На левом мотопехотные командиры охотно позировали на броне ошалевшим стрингерам.
Дважды, махая над головой майкой в замотанную колючей проволокой темень, я проходил между блокпостами по заминированному мосту. Трижды под гирляндами трассирующей перестрелки переплывал на плоскодонке Днестр. Ночевал где придется — в заводских общагах, на берегу реки, в садах, на кладбищах и в голубятнях. Карманы мои были набиты министерскими ксивами, имелось даже письмо из президиума академии. Патрули норовили использовать их по назначению, но на всякий случай меня отпускали, прежде обыскав на предмет фотоаппаратуры и валюты… Скоро я выучился и уразумел: две бутылки водки «Зверь» — вот мой мандат, мой пропуск в веселящий ад.
Вдали от Бендер третий день я наслаждался миром… Дизель часто останавливался, тормоза выдыхали компрессорной дрожью. Машинист прохаживался вдоль четырех вагонов и докуривал на подножке, посматривая на семафор. Наконец зеленый луч надрезал зрачок, и крупные звезды, навернувшись влажным блеском, вновь плелись над полем…
В Котовск я направлялся из любопытства. Старый мастер сахарного завода в Умани, которого подкупом я сумел подбить на демонтаж нашей установки, обтирая окровавленную руку смоченной в соляре ветошью, рассказал мне о мумии Котовского. Застреленный в 1925 году легендарный комкор по требованию его подельников из 17-й Кавдивизии был забальзамирован и помещен в личный мавзолей, став таким образом в один ряд с Лениным, Мао, Хо Ши Мином, Ким Ир Сеном и хирургом Пироговым. В 1941-м бетонную пирамидку взорвали румынские войска, а мумия Котовского оказалась в яме, куда сбрасывали тела расстрелянных евреев. Местные жители вынули половину атамана и куда-то заховали. Буря нового времени вновь вынесла мумию Котовского на всеобщее обозрение — в недавно отстроенный склеп. К его бронированному окошку нынче открыт свободный доступ. Образ лихого героя Гражданской войны был знаком мне с детства. Показалось забавным взглянуть в белые глаза атамана — глаза анархии и разгула, по новой захлестнувших эти края. Я читал в местном газетном листке очерк, откуда запомнил, что в 1915 году в один из налетов Котовский прибыл на одесскую квартиру скотопромышленника Гольштейна и попросил того внести в фонд обездоленных десять тысяч на покупку молока. Арон Гольштейн предложил на молоко пять сотен, однако котовцы вынули из купца все восемь тысяч, душу оставили.
Смотаться в Котовск казалось легким приключением, и я его предпринял, как только выдалось несколько свободных дней перед уже маячившим возвращением в Москву…