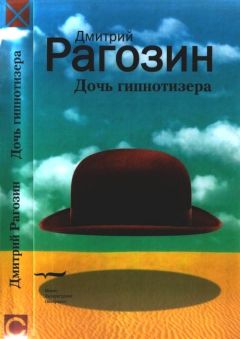Много позже до Лаврова дошла еще и другая версия, не более, но и не менее достоверная. Якобы Ляля прыгнула с вышки, дважды перевернувшись в запаренном воздухе, не подумав прежде заглянуть в бассейн, где воды в тот день набралось по щиколку…
Лаврова оставили горевать с двумя смертями, двумя полуправдами и бесконечным выводком подозрений, ибо один только намек на «несчастный случай» приводил Лаврова в бешенство. «Несчастный случай! — вопил он. — Сама ты несчастный случай!» Лиля обижалась и уходила в кухню резать морковь для супа или в ванную стирать белье.
Теперь, вернувшись на место преступления, Лавров надеялся, что прошедшие годы, отдалившие события настолько, чтобы сделать их недосягаемыми для злого умысла и праздного любопытства, помогут ему распутать Лялину гибель. Сидя в кресле против серого окна и листая книгу, давая себе передышку накануне решающих спортивных испытаний, он невольно уверился, что у него есть только одно прошлое и укротить его не составит труда, как только он осуществит то, что составляет цель и оправдание его присутствия здесь, сейчас.
Лавров прошелся по комнате. Присел возле картины, чтобы получше рассмотреть крыс, срывающих с несчастной княжны подмокшее платье. Вернулся в кресло, раскрыл книгу, задумался, забылся, ушел…
Но он не успел уйти далеко. Дверь у него за спиной содрогнулась под ударами. От неожиданности он выронил книгу. Стало страшно. Казалось, удары сотрясают не только дверь, но и всю комнату, вот-вот рухнет люстра, завалится шкаф, стены лопнут, как яичная скорлупа, и княжна Тараканова упадет на пол, разметав волосы…
«Войдите, войдите!..» — закричал Лавров в ужасе.
Удары тотчас прекратились. Дверь медленно отворилась и в комнату, у которой еще бежали мурашки по грязным обоям, прошаркал смотритель общежития. В одной руке, замотанной по запястью пожухлым бинтом, он держал большой чайник, в другой — прищепом — два стакана.
«Прошу прощения за беспокойство, — пробубнил он, ставя чайник и стаканы на стол. — Вот пришел проведать, посмотреть, как вы устроились. Чай индийский, извольте испить…»
У смотрителя, человека не старого, было длинное, вялое лицо, серо-голубые глаза растекались в линзах очков, желтая борода росла из носа, такая густая, что рот обнаруживался лишь тогда, когда он хохотал, а хохотал он редко и страшно.
«Да вы не робейте, чай хороший, настоящий…»
Он разлил по стаканам бурую гущу. Сам же, из-под руки, обшаривал комнату.
«Всякий люд у нас тут обретается. Иной за одну ночь таких художеств разведет, что потом за год не отскоблишь, — он приподнял край одеяла и, присев, заглянул под кровать. — Это я к тому, что, пожалуйста, не церемоньтесь, чувствуйте себя как дома, помните, еще Гегель говорил: „Легкомыслие, как и скука, суть предвестники того, что приближается нечто иное…“»
Смотритель поднял с пола книгу, бережно отряхнул и поставил на полку. Подсел за стол к Лаврову, отхлебнул, придерживая замотанной рукой бороду.
«Здесь у нас дикие кошки, они царапаются», — ответил он на взгляд Лаврова.
«Кровать у вас хорошая, мягкая, на пружинах, есть шкаф, письменный стол, книги для легкого чтения и картина для, так сказать, эстетических переживаний (помните, у Гейдеггера: „Картина висит на стене, как охотничье ружье или шляпа“?). Все в полном соответствии с инструкцией… Располагайтесь и ни о чем не заботьтесь, за вас все сделают, уберут, постирают, подотрут. Механизм, в основном женский, отлажен так, что практически невидим. Об одном только прошу, — смотритель перешел на шепот, — не пачкайте стен, особенно кровью, особенно чужой, а то знаете, есть любители…»
Лавров запротестовал.
«Ну-ну, — снисходительно уважил его смотритель, — все мы люди, за редкими исключениями, я вас еще ни в чем не обвиняю, поживите, проспитесь, так сказать, а там посмотрим, что вы за фрукт. Еще не родился тот человек, который был бы мне не по зубам!..»
Желтая борода смотрителя встрепенулась.
Лавров сохранял почтительное молчание. Он уже выпил полстакана. В голове у него собралась вязкая муть, не иначе как под действием восточного напитка.
Смотритель не унимался:
«Вашу покойную супругу, Алевтину Егорьевну, не имел счастья знать лично, однако был горячим поклонником, следил за достижениями… Насколько могу судить, замечательная была женщина, уникальная, но, увы, как заметил еще Иммануил Кант, „перчатка с одной руки не может быть употребляема для другой…“»
Лавров внимательно всмотрелся в сидящего напротив него шута, и что-то недоброе шевельнулось в памяти, красные грозди в сухих листьях, растоптанный циферблат, песок в ботинке… Нет, это из другого рассказа, в который его не приняли, в котором ему не нашлось места.
«Я одобряю ваше прегрешение, — оговорился смотритель, — я хотел сказать — решение. Никто не сознается, все сделают вид, что они вне игры, но, буду откровенным, вас, Геннадий Тимофеевич, здесь ждали, пять лет ждали, когда же вы, наконец, найдете в себе силы вернуться, сомневались только для приличия, у вас большое будущее, без вас им не управиться… Вспомните Прокла: „Способное возвращаться к самому себе — бестелесно“!..»
Лавров поблагодарил за доверие.
Смотритель долил ему из чайника.
«Друзья, которых у меня нет, — расчувствовался он, — считают, что я излишне категоричен. Домочадцы, которых у меня тоже нет, считают меня злым и высокопарным, именно так. А что прикажете делать? Рассыпаться мелким бесом? Лить воду на чужую мельницу? Или плясать под чужую дудку? Нет, я сам по себе! Что со мной ни делайте, в какую, прости господи, дыру ни суйте… Как сказано у Ницше…»
Он вдруг осекся, переводя дух, и некоторое время смотрел на Лаврова. Без слов.
«Да у вас, я вижу, совсем другое на уме, нет, нет, не отрицайте. Я вижу вас насквозь. Вам бы сейчас карты в руки, бубен, червей или… Ну конечно, перелезть через ограду в сад, где поваленные ветром статуи лежат в высокой траве…»
Разметая бороду вокруг клыкастой пасти, смотритель захохотал.
Как и следовало ожидать, столовая помещалась там же, где и в те давние, полузабытые времена, когда желудок Лаврова переваривал все, что разгрызали зубы, а зубы разгрызали все, что попадало в рот, а в рот попадало все, до чего дотягивалась рука, будь то кожа, кости, мозги, печень, почки или глазные яблоки рогатого скота, не говоря уже о домашней птице и пресноводной рыбе. И впрямь, кто бы решился передвинуть эту зловонную махину, кто бы покусился на этот прожорливый коловорот? Подблюдные сальности, чавкающий смех, икота, рыганье, пахучий шепот, брызгающий слюной, хлюп, хлип, шарканье ложки по склизкому дну, хруп разбитого стакана, опять смех, икота, скрежет зубовный — все это сливалось под низким потолком в смрадное месиво, которое вяло колыхалось над головами, впитывая жирные волны чада, валящего с кухни, где, как говорил кто-то из местных остряков, переводят продукты, которые не переводятся. Остряков в столовой было больше, чем спортсменов.
Надо было отстоять длинную очередь, чтобы приблизиться к перегородке, через которую толстые розовые руки выдавали миски с едой.
Наметанным глазом Лавров различал в толпе бегунов, велогонщиков, баскетболистов, гимнастов, прыгунов, городошников, пятиборцев, лучниц, наездниц, фехтовальщиц, даже здесь не расстающихся с рапирами, тяжеловесов, боксеров, метателей… Каждый вид спорта развивает не только особую группу мышц, но и определенное направление мысли. В ходе тренировки, Лавров знал не понаслышке, меняется голос, взгляд, жестикуляция. Появляются новые желания, новые страхи. Характер переиначивает облик. Посмотрите на велогонщиков, на их длинные, тонкие носы, впалые щеки, оттопыренные уши, послушайте, о чем они говорят перед стартом, затягиваясь последней папиросой, проследите, куда идут после финиша! Или взгляните на лучниц, толстощеких, губастых, грудастых, коротконогих, длиннопалых, лупоглазых!..
Теребя поднос, Лавров загодя искал свободного места, куда он мог бы втиснуть свое тщедушное тело, надеясь, что и его какой-нибудь знаток припишет подходящему виду спорта, пусть даже рытью нор в прибрежном песке, ужению рыбы с висячего моста!..
Скопление здоровья, силы, молодости, ловкости, удачи действовало на Лаврова удручающе. Он-то знал, на себе проверил, как нелегко найти всему этому применение в спорте. Конечно, на первых порах телесная крепость скрадывает скуку и тоску, но чем ближе к финишу, тем больнее нехватка знаний, надо думать, думать и говорить, говорить, а слов уже нет, ничего уже не вспомнишь, ни стихов, ни историй, ничего уже не осталось на победный рывок, только пот да экскременты.
Расплатившись, Лавров убедился, что ему везет — освободился столик возле колонны. Огромный детина в черной майке, загорелый, с плечами синими от наколок, с золотой цепью, встал, опрокинув стул, горстью захватил из стаканчика салфетки, вытер брыла, да-да, именно брыла, швырнул комок в тарелку и, набычившись, двинулся к выходу.