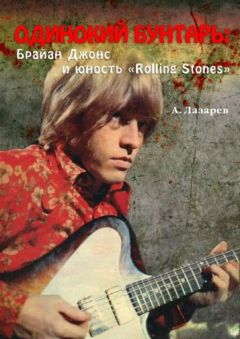– Кэн-ян! Ямада! Чем кончилось?
Моя мать начала суетиться: «Что случилось? Что случилось?»
– Меня не исключили из школы! Я отправлен под домашний арест! – ответил я громким голосом, который разнесся по всей школе. Члены нашего оркестра, одноклассники, малявки из группы Масугаки, и подчиненные Сирокуси, и т. д., и т. д., и т. д., Мацуи Кадзуко – все высунули головы из окон и махали нам руками. Я помахал в ответ только Мацуи.
Одним из условий домашнего ареста было то, что нам не разрешалось вообще выходить из дома, но, поскольку от этого можно свихнуться, что пагубно сказалось бы на нашем исправлении, нам была предоставлена ограниченная свобода – «прогуливаться по кварталу».
Я не чувствовал себя несвободным. Конечно, я не мог посещать кинотеатры или джаз-кафе, но, поскольку наш дом находился недалеко от центра города, я мог выходить в парк гулять с собакой и сосать там замороженные соки, посещать книжные и пластиночные магазины, подглядывать в дома, где шлюшки развлекаются с чернокожими солдатами. И еще сестренка привела свою подругу Торигай-сан и познакомила меня с ней.
У Адама все было хуже. Ему пришлось покинуть интернат и вернуться в шахтерский поселок. Из-за экономического спада шахты были на грани закрытия, и город фактически вымер. Там были обувной магазин, лавка с сушеностями, канцелярский магазин и еще магазин одежды. В магазине одежды имелись только белые хлопчатобумажные носки, в канцелярской лавке была только оберточная бумага, в лавке сушеностей не было даже растворимого карри, в обувном магазине – только кожаные тапочки для рабочих. Слухи о предстоящем закрытии шахт ходили по городу уже с позапрошлого года, и жители покидали его толпами. По улицам болтались только кучки старых бездельников, которые не могли уехать, даже если бы захотели.
Трудно представить себе семнадцатилетнего парня, который уже знает «Led Zeppelin», Жана Жене и позу наездницы, оказавшегося в подобном городке под домашним арестом.
Между тем я из кожи вон лез, чтобы показать учителям, приходившим меня проверять, какой я стал положительный. Отец с удивлением спрашивал меня, с чего вдруг я стал таким подхалимом. Я был готов с расшаркиваниями подавать им охлажденный ячменный чай, чего Адама, думаю, никогда бы не сделал.
«Меня тошнит!» – твердил по телефону Адама. В отличие от меня, он при встречах всегда спорил со школьным руководством.
– Меня от них тошнит, – повторял он.
– Послушай, не будь таким упрямым!
– Кэн, они все утверждают, что ты раскаялся в содеянном. Это правда?
– Это только поза.
– Поза?
– Разумеется.
– Что еще за поза? Как ты можешь? И тебе совсем не стыдно перед Че Геварой?
– Не гони волну. Ты доходишь до ручки.
– Кэн, а что с фестивалем?
– Будет.
– Ты написал сценарий?
– Почти готов.
– Поторопись и пришли его мне. Тогда я начну собирать материал. Подготовлю все, что смогу.
– И что же это будет? Кожаные тапки для рабочих? Сомневаюсь, что нам потребуются куски угля.
Адама под домашним арестом шуток не воспринимал. Он бросил трубку. Я перезвонил ему и извинился.
– Прости и не сердись. Я постараюсь побыстрей закончить сценарий и сразу вышлю его тебе. Я подумывал об открытии фестиваля. Помнишь ту фифу, с которой мы встретились как-то в «Бульваре»? Нагаяма Миэ из Дзюнва. Мы оденем ее в ночную сорочку. В одной руке она будет держать свечу, а в другой – топор. На сцене будет огромный плакат с портретами учителей Северной школы, премьер-министра Са-то и Линдона Джонсона. И под «Третий Бран-денбургский концерт» Баха она начнет крушить топором этот плакат. Здорово?
От таких слов Адама воспрял духом. Мысль о фестивале была единственным, что поддерживало Адама, которого от всего тошнило. Не только Адама, но и все остальные после окончания затеи с баррикадой с нетерпением ждали нового развлечения.
Наш классный наставник Мацунага был безумно тощим, поскольку со студенческих лет страдал туберкулезом. Он был человеком мягким и вежливым и, вероятно, за всю жизнь ни на кого не повысил голоса. Во время летних каникул он приходил навещать меня через день.
При этом он был немногословен, ограничиваясь короткими фразами «Как ваши дела?» или «Надеюсь, я вам не мешаю?» Так же часто он заглядывал и в дом к Адама. Тот вопил что было мочи на него, объявляя всех преподавателей наймитами капиталистов, после чего Мацунага, делая вид, что ничего не замечает, с улыбкой откланивался, на прощанье похвалив красивые подсолнухи возле калитки. Мапунага посещал меня и Адама в шахтерском поселке, к которому ему приходилось ездить на автобусе, исключительно после вечерних занятий.
Из окна комнаты мне была видна остановка. Выйдя из автобуса, нужно было подниматься по узкой тропинке на холм, а потом по лестнице. Я часто наблюдал, как Мацунага, пыхтя, взбирается на холм, несколько раз делая по дороге передышку. Для учителя с хронической болезнью легких это было потруднее, чем вести занятия.
Пот струился у него по лицу, и меня каждый раз подмывало спросить, как он себя чувствует? По прошествии некоторого времени я перестал испытывать презрение к Мацунага.
– Знаешь, Ядзаки, возможно, то, что я сейчас скажу, тебе будет непонятно, но за время учебы в учительском колледже я перенес шесть серьезных операций. Вся грудь у меня в шрамах. Иногда я даже падаю в обморок. Вначале мне было страшно, но со временем ко всему привыкаешь. Я привык к операциям, к анестезии и к потерям сознания, и тогда я решил, что ничто не имеет значения. Например, летом повсюду цветут подсолнухи и каны, а мне остается только смотреть на них и думать, что ничто не имеет значения.
Мацунага постоянно говорил что-нибудь подобное. Я уже не презирал его, а испытывал даже уважение и считал, что Мацунага – великолепный учитель. Хотя ни я, ни Адама не желали принимать идею «ничто не имеет значения».
Адама с каждым днем становился все более мрачным, а когда начался второй семестр, я тоже стал более нервным. Улицы провинциального городка опустели: дети были в школе, взрослых мужчин тоже не видно, остались только женщины, старики, младенцы и собаки. Когда я рано возвращался из школы, улицы выглядели совершенно по-другому. Из-за полуприкрытых ставен цветочных лавок доносился аромат срезанных цветов. Владелец обувной лавки только что ее открыл и, зевая, протирал полки.
Из открытых окон доносились звуки телешоу, которое я никогда не смотрел. За железной решеткой детишки из детского сада танцевали, встав в кружок, а старики сидели на корточках в тени деревьев и громко смеялись. Тогда я ощущал себя на улицах посторонним.
И теперь в этом городе мне предстояло оставаться под домашним арестом. Скоро летние каникулы закончатся, и я начинал беспокоиться по поводу предстоящих экзаменов по тем предметам, которые прогулял. А прогулов было немало. Меня начинало трясти от одного слова ВТОРОГОДНИК. Я не мог даже представить, что мне еще год придется ходить в эту школу.
Был очень дождливый день, мне не хотелось идти выгуливать собаку, и я сидел дома и играл на барабанах. Раздался длинный звонок в дверь, и, выйдя на веранду, я увидел там матушку Адама.
– Я – Ямада. Вы помните меня? Мне нужно с вами переговорить, – сказала она подавленным голосом. – Попрошу вас не рассказывать Тадаси о моем посещении. Он рассердится, – сказала она на безукоризненном стандартном языке. – Я знаю, что встреча с вами ничего не изменит, но я не знаю никого другого, с кем могла бы об этом поговорить. Вы, наверное, знаете, что шахты в нашем городке под угрозой закрытия, и отец Тадаси слишком занят этими проблемами, чтобы интересоваться делами сына.
Мать Адама нервно промокнула шею и лоб белым платком.
«Держись, – подумал я, – что мне делать, если она начнет плакать?»
– Я уже несколько дней не разговаривал с ним, – сказал я. – У него все в порядке?
Мать Адама глубоко вздохнула и покачала головой. Некоторое время она молчала. Я испугался, не натворил ли он каких-нибудь глупостей. Именно такие спокойные, уравновешенные, как он, в критические минуты проявляют слабость. Не говорите только мне, что он, скрепив волосы резинкой, сидит в юката, украшенном цветочками, за органом и бодро наигрывает «Мадам Баттерфляй»...
– По правде сказать, я впервые видела Тадаси таким, как сегодня.
Значит, он и в самом деле сидит ночью и воет на луну, выплывающую из-за отрогов гор...
– Из всех моих детей Тадаси больше всего был похож на меня. Он всегда был примерным, послушным ребенком. Правда, иногда я немного беспокоилась, что он слишком холодный, ни на что не реагирует.
Я хотел возразить ей, что это не так, что я видел, как он готов был заплакать от «Завтрашнего Джо» или как он сглатывал слюну, листая журналы «Девочки в трусиках», но удержался.
– А сейчас он так грубо отзывается о своих учителях... В чем дело? Даже от меня Тадаси сильно отдалился.